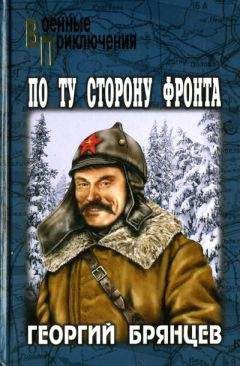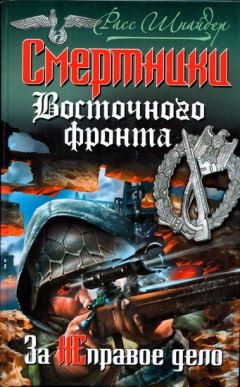Северина Шмаглевская - Невиновные в Нюрнберге
— Надо же, какая неожиданность! — шептал он, поглаживая усы. — То мы с вами встречаемся над облаками, то в концерте. Везет же вояке.
— Здесь, по-моему, собрались все наши попутчики из самолета.
— Бог с ними. У меня запросы куда скромнее, вполне хватает встречи с вами.
Началось второе отделение. Я прикрыла глаза руками, чтобы ничто не мешало мне слушать. Мои мысли, словно плот, сорванный с места весенним паводком, помчались по течению к местам, к пейзажам, о существовании которых я и не подозревала. Себастьян все время наблюдал за мной, я ощущала это, каждый раз натыкаясь на его пристальный взгляд. Меня это слегка раздражало, но вместе с тем было приятно, я не испытывала одиночества.
И снова гром аплодисментов. Серебристая голова дирижера опустилась в поклоне. Какой тревожный момент. Кончилась оркестровая часть. Теперь все услышат Шопена, Листа, Моцарта — в чьем исполнении? Соланж? Или другой пианистки? Что это за девушка подходит к роялю? Неужто в самом деле объявленная в программе Соланж Прэ? Значит, она жива? Ей разрешили жить? Я открываю глаза и оглядываюсь. Нет, то время ушло. Я не в том, странном оркестре, одетом в новые полосатые лагерные робы, который репетирует в девятом бараке. Оркестр, в котором и солистки, и все оркестранты держали инструменты озябшими руками, а в их расширенных глазах отражался ужас обреченных, стоящих на краю пропасти. Музыка навсегда стала для меня мостом к прошлому, и этот мост памяти трудно будет разрушить.
Я никогда больше не возьму в руки скрипку, думаю я, уныло глядя на сцену, на раскрытый рояль. Соланж восхищает меня. Она идет быстро, бесстрашно улыбаясь, с высоко поднятой головой.
Поразительно, меня согрел энтузиазм зала. Еще минуту назад я боялась за Соланж, была уверена, что она не сможет пройти этих нескольких шагов до рояля на одеревеневших ногах, что ее онемевшие пальцы не смогут правильно сыграть простейшей гаммы. А теперь вдруг мое сердце переполнено надеждой, я жду успеха, победы, именно здесь, в Нюрнберге. Я хочу, чтобы она заставила их восхищаться, кричать «браво», вызывать на бис. А потом она расскажет, ведь после концертов всегда берут интервью, репортеров всегда интересуют творческие биографии, она расскажет, при каких обстоятельствах совершенствовала свою технику. Сегодня перед ней распахнул двери самый знаменитый концертный зал Нюрнберга. А тогда?
Дирижер пошел ей навстречу. Соланж поклонилась в ответ на легкий шум приветственных аплодисментов. Села к роялю.
Зал замер. Воцарилась тишина. Огромная, наполненная легким шорохом, хлопками раковина вновь опустилась на дно покоя. Кажется, зрители затаили дыхание в ожидании первого аккорда.
В тот момент, когда Соланж будет исполнять «Прелюдию» Шопена, я начну свой разговор с Томашем, ему адресую слова, как если б вдруг оказалось, что он жив. Мне надо думать о нем, только тогда музыка поможет восстановить в памяти его черты, развеваемые ветром волосы, глаза, которые перестали видеть, всего его, быть может давно ставшего соком земли.
Соланж склонилась над клавиатурой. Ее успех станет моей победой, «бисы» заполнят этот вечер до конца.
Сама я, в самом деле, ничего не умею, я не поднялась даже на первую ступень жизни; сухое, рассыпчатое, твердое, шуршащее зерно не превратилось в зеленые, буйные, сочные всходы, не вытянулось в изящные живые стебли, не обрело аромата цветения, не налилось тяжестью созревших колосьев. Чего мне не хватает? Воли? Таланта? Или смелости, которая необходима, чтобы заново взяться за дело? Я не знаю! Я не могу ответить на эти вопросы. Просто в самые трудные минуты жизни музыка стала для меня потребностью, такой, как вода, мыло, хлеб или простой карандаш; необходимым инструментом для выражения чувств; она играла роль спасательного круга, соломинки, за которую я судорожно хваталась, чтоб не рухнуть под пролетевшими над моей головой событиями. Только сейчас я понимаю, что мои тревоги не имеют ничего общего со страхом — скорее, воспоминание о том дне лишает меня покоя и душевного равновесия. Тот день, отразившись в музыкальном произведении, запечатлелся в моих нервах. И оставил свою печать, как ракушка, сотни тысяч лет тому назад вросшая в камень, подобранный когда-то мною на берегу Ионического моря. Известковая ракушка давно рассыпалась, исчезла, но форма ее отпечаталась навсегда в минерале.
Дирижер взмахнул палочкой, он походил то на прекрасного танцора, прикованного к месту, то на пальму, гнущуюся под резкими порывами морского ветра.
Оркестр ведет скорбную песнь Фридерика Шопена. Соланж еще не играет, но уже участвует в полете мелодии, впитывает ее ритм, тему, слушает, проникается пафосом, поэзией, напевностью. И вот!!! Первым же аккордом легко вступает в музыку, пальцы несутся, давая выход искрометному темпераменту, сдерживаемому техникой.
Она нашла свою тональность, пальцы едва касаются клавиш — это шум дождя на тихой улочке, это шелест листьев, с которых стекают капельки воды на подоконник, это звон стрекозиных крыльев над лугом, это четкий ритм, который отбивают ножонками деревенские ребятишки, спешащие по тропинке в школу в далекой Польше. Это жаркое солнце, день ожидаемой встречи с Томашем, — день, который никогда не наступит.
Поразительно, до чего гибкие и быстрые пальцы у Соланж, гораздо гибче, чем раньше. Чтобы играть Шопена, нужно верить в сказки, нужно уметь их рассказывать, а ведь время сказок прошло бесповоротно. Неужели боль одиночества становится для нее источником вдохновения, как тогда отчаяние?
Дирижер склонился к роялю, мне видно его лицо, одобрение, быть может, даже восхищение промелькнуло в его улыбке, глаза, полные мягкого света, дружески смотрят на Соланж. Тут нет дирижера, нет пианистки, оркестра — есть только Шопен, очарование тишины, напевность, запах сосен и запрятанная глубоко, на самом дне поэзии, человеческая сила.
Аплодисменты оглушили меня, зал взорвался, и я не сразу поняла, что уже можно перевести дыхание. Первая часть выступления закончилась. Соланж благодарит за аплодисменты, низко кланяется. Дирижер взял пианистку за руку, ведет к рампе. Они улыбаются друг другу, словно во время свадебного танца. Овации не смолкают, к ним присоединяется рокот голосов, молодежь, стоявшая вдоль стен, скандирует. Я удивленно смотрю на Вежбицу, напрасно пытаясь понять, что кричат эти люди.
Дирижер доволен; лихо тряхнув седой шевелюрой, он рукой показывает на Соланж. Аплодисменты снова усилились. Себастьян наклонился ко мне. Я чувствую горячее дыхание.
— Слышите? «Noch einmal»[19]. Они просят повторить еще раз.
— Значит, и немцы пришли на концерт?
У Себастьяна дрогнули брови.
— Только хорошие немцы. Исключительно хорошие немцы.
Я поднесла палец к губам.
— Скажите, они вызывают на бис только Шопена?
Себастьян не понял меня, потом вдруг до него дошло, и он расхохотался. Аплодисменты заглушали наш разговор, мы едва слышали друг друга.
— Пока да. Но за будущее поручиться не могу.
Я ответила:
— После такой музыки я готова согласиться с каждым «noch einmal».
Соланж заняла свое место. Положила руки на клавиши. С минуту молча ждала, закрыв глаза. Наконец-то зал успокоился.
— Прелюдии Шопена, — говорю я совсем тихо. Но мою просьбу уже подхватывает Себастьян Вежбица, чей бас перекрывает другие голоса.
— Прелюдии! Прелюдии Шопена! — повторяют вслед за Вежбицей соседние ряды.
Соланж взглянула туда, откуда раздавались голоса, кивком головы подтвердила: она исполнит то, о чем просит зал.
С неописуемой легкостью пальцы коснулись клавиш. Слушатели замолкли, захваченные напряженной мелодией. Оркестр ждал. Я закрыла глаза. Тот далекий день всплыл в памяти так отчетливо, что я на мгновение даже увидела Томаша, стоявшего в группе мужчин. Черты его я не могла различить, лишь туманный контур неподвижной фигуры, это болью отдалось в сердце — и внезапная уверенность: его нет, нет среди живых. Что это значит — его нет?
Скандирование, приглушенное, едва различимое «noch einmal» раздается теперь после каждой вещи, исполненной Соланж. Она черпает в этом силу. Горячая волна счастья заливает меня, моментами я тяжело вздыхаю и тогда чувствую усталость от этого длинного дня, но это всего лишь доли секунды, тут же ко мне возвращается спокойствие, я понимаю, что у Соланж громадный успех, я знаю, что она должна остановиться на этом аккорде победы; она и сама сознает это и легким движением головы дает понять, что сегодня больше играть не будет.
Все громче аплодисменты, они длятся и длятся, в них не слышно теперь криков «бис», зал сотрясает настоящая овация, и совсем еще молодая бельгийка принимает это с вежливым достоинством, она благодарит поклоном и улыбкой, до конца сохраняя спокойствие. Вот она подходит к самому краю рампы, подчиняясь непонятному мне порыву — видно, эти люди в зале создали такую атмосферу, что она может играть легко и свободно, будто на пустынном морском берегу или в нежилом, заброшенном доме. Их восторженный прием окрылил ее. Думаю, что только раз в жизни она играла так самозабвенно. Как хорошо я помню тот день — но там была борьба за то, чтобы выжить. Я поднимаю руку, хочу дать ей знак. Я воспринимаю ее в двух плоскостях: сегодняшней и той, очерченной каплями нереальных, туманных огней.