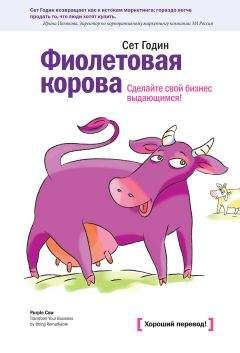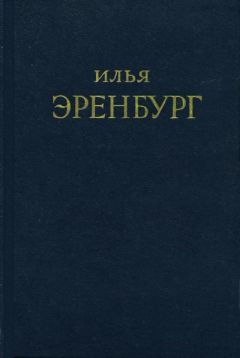Илья Эренбург - Буря
Дюма улыбнулся:
— Мне нужно прожить еще два-три года — хочу закончить работу. Теперь очень важно развеять их вздор о расовых особенностях. Они ведь заразили весь мир своими суевериями. А волнения будут, ничего не поделаешь — время такое… Я вас сейчас удивлю — вчера я отправил заявление: прошу принять меня в коммунистическую партию. Одобряете?
— Нет, не одобряю. И по соображениям вашего здоровья и по моим представлениям о человеческой свободе. Рене тоже коммунист, мы с ним спорим чуть ли не каждый вечер. Я согласен — сейчас коммунисты приятнее других, хотя бы потому, что они не у власти. Я ничего не имею против того, чтобы у Пино отобрали миллионы. Но люди останутся людьми, вы устраните одну несправедливость, появится другая. Вы сами не раз говорили, что от коммунистов вас отталкивает их сектантство…
— Для меня эти годы не прошли даром. Я там не только воевал с эсэсовцем, я думал… Мне и теперь не все нравится в коммунистах, но какое значение имеют эти детали? Речь идет о судьбе культуры. А вы мне говорите: хорошо, но у человека, который ее спасет, на щеке бородавка. Самба жалуется: они предпочитают Сезанну цветные открытки. А мне сейчас не до бородавок, даже не до живописи. Я был в Бухенвальде, доктор… Я думаю о самом главном. Вы понимаете, почему русские выиграли? Ведь вы не станете отрицать, что войну выиграли именно русские? По сравнению со Сталинградом вся Африка это маленькая диверсия, а высадились они только после того, как русские доконали немцев. Почему же русские выиграли? У них не просто государство, у них государство плюс идея. Я просидел в этом проклятом лагере два с половиной года, там были разные люди. Я видел стойких католиков, роялистов, кого хотите. А вот коммунисты держались лучше всех. Почему? Да потому же — у них не просто сильный характер, у них сильный характер плюс идея. Вы критикуете все и всех, это самое легкое, это у нас в крови. Скептицизм когда-то был стимулом, он давно стал снотворным…
Под окнами пели «Марсельезу», «Интернационал». Дюма подтянул припев:
С Интернационалом
Воспрянет род людской…
— Слушайте, Морило, нам придется пережить трудное время. Немцы кричали, что они «народ господ», выше всех. В ответ каждый народ стал превозносить себя, это естественно — закон самозащиты. Но отсюда недалеко до национализма, до тупости, до слепоты. Кто сможет этому противостоять? Да только коммунисты. В лагере были французы, русские, поляки, чехи, немцы, и коммунисты нашли там общий язык… Вот вам еще одна причина, почему я стал коммунистом: я люблю Францию, о чем тут говорить, но я люблю также человечество…
Морило не стал спорить: хватит с него Рене. Вот и Дюма зацепился. Одни идут в церковь, другие к коммунистам, все меньше и меньше людей, которые предпочитают горькую истину… И Морило сказал:
— Я вас прошу об одном — ограждайте себя от лишних волнений. Вы слишком много пережили. Главное, это сердце…
Дюма улыбнулся:
— Когда речь идет о медицине, вы понимаете, что существует нечто главное, не спрашивайте — зачем я буду лечить сердце Дюма, если завтра он может простудиться или испортить желудок… Знаете, Морило, и вы туда же придете. Только смотрите — не опоздайте, в каждом деле есть свой Сталинград и своя Нормандия…
Когда Морило ушел, Дюма долго глядел на солнечный зайчик, который прыгал по потолку. Потом он оделся. Мари всполошилась:
— Куда вы, господин Дюма? Доктор сказал, что вам нужно лежать.
— Доктор так должен говорить, для него сердце это мышца. А есть и другое сердце, оно докторов не интересует… Как я буду лежать у себя, когда на улице праздник?..
Он вышел, опираясь на палку. Было солнечно и шумно. Непрекращающимся потоком шли люди, смеялись, пели, несли яркие флаги. Профессор медленно шагал по мостовой. Он улыбался Парижу, победе, жизни. Какая-то женщина сказала малышу: «Осторожно, Жано, ты толкаешь дедушку…» Дюма удивленно оглянулся — он как-то забыл, что он стар, это его назвали «дедушкой»… Он глядел на малыша, который размахивал маленьким бумажным флажком. Это был сын Пепе-Миле. Дюма не знал Мари, не слыхал о подвиге Пепе. Перед ним был веселый мальчуган с непокорным чубом, который держал красный флажок. И Дюма сказал ему:
— Ну, знаменосец, проходи вперед. А я за тобой. Так и пойдем вместе… Согласен?
32
Как всегда в толпе, Самба чувствовал себя счастливым; он любил людей и легко заражался их весельем. Весь день он ходил по улицам, пел и на сотни ладов повторял еще не привычное слово «победа». И как всегда, поднявшись к себе, среди холстов и духоты мастерской он стал суровым, даже мрачным. Он чувствовал: что-то кончилось. Завтра нужно жить по-другому. Нельзя больше оправдываться перед собой тем, что война. А долгий тяжелый день не хотел уходить, заселял сумерки еще близкими тенями.
Здесь прятался Лео, большой ребенок, которого гроза застала врасплох. Приходила Леонтина; они говорили друг с другом о счастье, и простые слова раздирали сердце. Самба не мог выдержать — отворачивался. В августе Леонтина договорила все: танк вспыхнул, а она упала возле дома. Жозет приходила в первую зиму, глядела на картины, говорила о Поле. Его расстреляли, она погибла где-то на юге. Вот этот портрет Самба писал перед самой войной и не кончил. Смуглая девушка в канареечном платье: вишневый рот чуть приоткрыт. Ее звали Марго. Гестаповцы ее спрашивали, где Бертран, она не сказала. Ее убили… Неужели все это уйдет, как теплый весенний туман?..
О чем бы Самба ни думал, он всегда возвращался к искусству. Он и сейчас спорил, может быть, с эпохой, может быть, с собой. Конечно, найдутся охотники, которые намалюют Леонтину, сжигающую танк. Да и почему бы, когда делают мед из опилок, не быть суррогату искусства, сделанному из героической действительности и дурной живописи. Я не знаю, можно ли передать в обыкновенном пейзаже (дорога, деревья, ветер) тот август, когда я лежал с винтовкой на крыше?.. Может быть, нужен иной подход. Я не верю людям, которые говорят, что им безразличны события. Я верю Гойе. Он работал много лет хорошо и ничтожно, был светским портретистом английской школы. А потом над Испанией пронеслась буря. Только тогда он действительно родился. Ему было в ту пору пятьдесят пять лет. Он пережил войну, он написал расстрел повстанцев, сделал офорты, которые мне мерещились в годы оккупации. Я знал, как погибнет Леонтина, я был знаком с палачами Лео — их показал мне Гойя… Я не хочу быть драпировщиком в доме Пино и не хочу подавать партизан в духе батальных полотен Версаля — чем больше, чем роскошнее, тем лучше платят… Я хочу сказать о человеке языком живописи. Но как выразить правду, не изменив искусству?
В конце апреля к Самба пришла Мадо. Он глядел на нее и думал: люблю, еще сильнее, чем прежде, никогда не разлюблю и никогда не скажу ей о своем чувстве… Мадо смотрела пейзажи, говорила, что они ей нравятся. Потом ее глаза стали пустыми, она как будто спала с раскрытыми глазами. Может быть, она вспомнила, как встретилась здесь с Сергеем?.. Она сказала Самба печально, но спокойно: «Какими мы были детьми до войны»… И Самба подумал: вот и я повзрослел, я больше не думаю о счастье. Я хочу другого: выразить то, ради чего люди умирали, то, ради чего родилось на земле искусство.
Когда-то Самба казалось, что художник должен уметь видеть, потом он понял, что необходимо осмыслить зримый мир, а теперь он знал — и этого мало, главное — пережить в себе и на себе. Война сейчас ушла с полей, из лесов, она стучится в мастерскую, она напоминает: ты это пережил, ты знал Марго, ты был при том, когда Лео прощался с Леонтиной… Люди на улице радуются, потому что кончилась война. А для художника она не кончилась — она в нем, он либо создаст нечто равное Гойе, либо задохнется.
Как просто было в августе: стреляй! Но есть обет, от которого нельзя отказаться. Думают, что искусство — это самое легкое: научился писать и пиши. А здесь мало и умных мыслей, и доброй воли, и мастерства. Здесь мало видеть и понимать. На этом нужно сгореть. Искусство не только смотрит назад, у него не только хорошая память, у него и предвидение…
Он стоял у окна. Ему казалось, что его обступают тени; зовут, требуют, обличают. А внизу люди все еще шли, кричали, пели. И вдруг донеслась до мастерской песенка, которую любили партизаны Лимузэна:
Другие встретят солнце
И будут петь и пить
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить…
Так вот чего они требуют — сказать, как хотелось жить людям, которые отдали свою жизнь, — Полю, Марго, сталинградцам, летчикам, партизанам… Но как это выразить? Самба жадно вглядывался в ночь, как будто хотел разглядеть то, чего не видно. Он долго простоял у окна. Давно замолк город. Наконец ночь дрогнула; все стало неточным, смутным, томило глаза и сердце. А потом на очень бледном небе обозначились черты Парижа: далекие башни, деревья, крыши, трубы. На черепицах лежал человек с ружьем. Он глядел мертвыми стеклянными глазами, а кровь казалась давно нарисованной — пожухла. Тогда Самба, не раздеваясь, лег и тотчас уснул в мастерской, полной яркого дневного света.