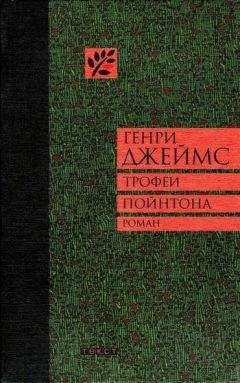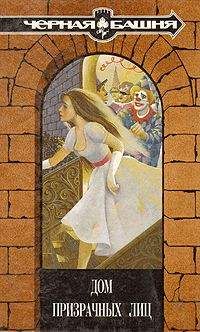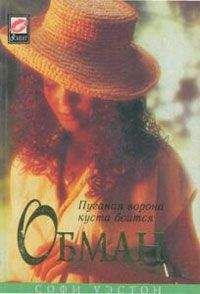Висвалд Лам - Одну лишь каплю даруй, источник
Как-то я читал «Садовника» Рабиндраната Тагора — на берегу старицы, под цветущей черемухой. Странная книга, где ничего не происходит, нет ни войны, ни героев, нет стихов, а звучит как стихи. Слова Заратустры напоминали молнии, которые глубокой ночью вырывались из угольно-черных туч.
Но бабушке говорить об этом нет смысла. И Хильда считает, что зря только спорить, Я знаю ее отношение к Лацису — сдержанно пожимает плечами, что означает: «Ничего особенного, читать можно». Ей по душе «Возвышенная песнь», «Сумасшедший профессор», «Кошачья тропа» Зудермана, но особенно «Возвышенная песнь». Для меня эта «Возвышенная песнь» что-то вымученное, вообще романы Зудермана кажутся надуманными, скучными, глупыми. Я не скрываю это от Хильды, и она прямо говорит: «Ты еще мал и глуп, чтобы понять глубину Зудермана!» Еще она говорит, что, считая, от зазнайства, других дураками, я только выказываю свою ограниченность. Вот и о романах Лациса мы не можем договориться. Я читаю их охотно, им присуще особое волшебство, яркие события, все как-то очень знакомо, легко схватывается.
Это была пора необычайной славы Вилиса Лациса; такой популярностью ни до, ни после того не пользовался уже ни один латышский писатель. Читали его все: даже те, кто не признавал иного чтения, кроме календаря и репортерской хроники, даже те, кто вообще ничего не читает, и те, кто ставил в упрек Лацису упрощенную, однотонную психологию его героев — разумеется, несправедливо, так как ни одного писателя нельзя мерить на другой аршин; Вальтер Скотт, например, не Достоевский, и глупо было бы требовать, чтобы Жюль Верн изображал своих героев так, как это делает, скажем, Мопассан или Аугуст Стриндберг. Лацис был и остается Лацисом, и у него была своя сила и свои слабости, как у любого художника слова, даже у тех, кого именуют величайшими умами человечества.
Бабушка: «Лацис пишет так понятно, все говорит ясно и просто, не надо голову ломать, что там, а что тут».
Странно — что у меня за недуг ковыряться в вещах и явлениях, которые в первый момент, на первый взгляд кажутся очень простыми, очень ясными, несомненными, неусложненными?
Почему, почему?
Может быть, болезненное стремление понять превратно, усложнить, сделать неясным? Может быть, догадка, что ясное, несомненное бывает только снаружи — приглаженная поверхность, ободранная, выструганная, отполированная самой жизнью поверхность, в то время как в глубинах открывается неизведанный, таинственный мир в себе.
«Ройте глубже!»
Царникава. Школа.
Я сижу на длинной парте, решаю заданный столбик. Скучно, ужас до чего скучно. Такая лень, что просто рукой не шевельнуть.
5 + 5=10 6 + 5 =
5 + 6=11 6 + 6 =
5 + 7=12 6 + 7 =
5 + 8=13 6 + 8 =
5+9= 6+9=
Зачем надо писать эти глупости, если я могу все сказать так? Скучно, смертельно скучно. Эйдис рядом со мной старательно пишет, все считает, считает, даже взопрел. Я не пишу, я только держу перо, а мысленно уношусь куда-то. Какого шута возиться с цифрами, станет ли заведующий дотошно проверять, а может, и вообще не станет проверять — не первый раз удачно сходит с рук, не первый раз попадаюсь и получаю за это выговор. Вздуть тебя надо! Эйдис потеет. И чего он старается? Странно, странно. Я пересекаю покрытую льдом Гаую, бреду по курпниеккактским сугробам, по булыжным рижским улицам, вспоминаю ледоход на Даугаве, несколько весен назад — мы втроем, тогда еще была Мирдза, и еще тогда… А Эйдис все считает, так что ото лба пар валит, пишет, так что перо скрипит. Неужели он не хочет даже в воображении убежать отсюда, далеко-далеко? О чем он думает и думает ли он? Неужели только о цифрах? Странно, вот он рядом со мной, а как будто за толстым стеклом. Стекло хоть и прозрачное, будто слой воды в Гауе, а все равно искажает изображение. А другие? Я ухожу от них, иду по мосту через Гаую, они здесь, и я здесь и все же не здесь. Непонятно, страшно! Невольно я поднимаю руку, хватаю Эйдиса за вихор, тот от неожиданности злится:
— Что ты хватаешься? Считай давай, а то опять будет взбучка…
Я сконфуженно отдергиваю руку. Эйдис здесь, вот он, рядом, но стекло как-то преломляет не так. Я один в какой-то стеклянной клетке.
На перемене я вываливаю ребятам все, что вообразил себе во время урока арифметики. Первый и последний раз, потому что их ответы потрясли меня.
Юлис:
— От безделья черт те что мелет!
Эйдис:
— Если ты еще раз дернешь меня за волосы…
Майгонис, вытаращив глаза:
— Не пойму я, про что ты.
Сын заведующего Айгар, набивавшийся мне в друзья, тоже стал было что-то излагать; к сожалению, я не понял его, а он не понимал меня. Мы легко объяснялись во время игр, дурачась, договариваясь по разным пустякам, но относительно «мира сего» никогда и никак. Майгонис многозначительно крутил пальцем у виска, я замолк, сознавая, что замолкну навсегда. Почему они такие далекие, каков их мир? И каковы они сами? То, что я вижу, то может таиться; в них самих есть что-то затаенное, чего никогда и не увидишь.
Царникава. Конюшенный дом.
Мои босые ноги шлепают по утоптанной тропинке. «Жми, жми, Янка!» Я — бегун Далинь, я обгоняю Попа, Шваба, Валенте, сейчас я порву финишную ленту, установив новый мировой рекорд. «Жми, Янка! Жми!» Публика орет, я ее кумир, чемпион. «Жми, Янка! Жми!» И я рву ленточку, побиваю рекорд, получаю лавровый венок и серебряный кубок. Победитель. Взобравшись на верхушку клена, я горделиво оглядываю мир — мир, видимый отсюда. Он полон красок, пьянящего аромата, звуков… людей нет. Где-то косарь точит косу — скрежещущий звук, неприятный звук. Человека нет. Песня — протяжная, заунывная песня. Я знаю, там два строителя железной дороги, два латгальца, они обняли друг друга за плечи, они выпили и в обнимку идут и поют. Они близки друг другу, они понимают друг друга, их единит песня. И я, и я с ними. Песня кончается, они удивленно смотрят друг на друга — смотрят, как сквозь прозрачную непреодолимую стену. Человек и человек. Стихло и ликование толпы, я один, совсем один.
Царникава. Заколье.
Свищет ветер, щиплет мороз. Минога кишит в больших деревянных чанах. Старый Крустынь растапливает печь, скоро начнется обжарка. Женщины раскладывают мучениц на решетках, я сую руку в чан, выдергиваю — к моей ладони присосались сразу несколько этих необычайных змеевидных рыб. Люди так и снуют — первый большой осенний улов. Старший рабочий Берзинь делает важное лицо, повышает свой скрипучий старушечий голос, его дочка Расма бегает по обжарочной. Расма — озорной, непослушный, жизнерадостный ребенок. Первый большой осенний улов. Я уже слишком вырос, чтобы играть с Расмой, я смотрю на обвислые усы Берзиня. Что он за человек? Этим летом я пас его коров — так же, как в свое время Эрнест. Он не привез в Ригу обещанную картошку. Хильда сказала: «И никогда не привезет» — и не ошиблась. Что он за человек? Можно ли это полностью когда-либо понять? Так далеки человек от человека — можно видеть наружность, а все остальное даже не почувствовать, разве что угадать. Берзинева замусоленная вязаная фуфайка — и генеральское черное тонкого сукна пальто с котелком. Генерал идет по двору, я здороваюсь, он приподнимает котелок. Наверное, припоминает: это сын той вдовы, что снимает у меня чердак в Конюшенном доме. У нее было трое детей, старшая дочь умерла, с младшими она вернулась в Ригу. Как просто. Наверное, именно так генерал и подумал обо мне, и это значило не больше, чем промелькнувшая в его голове мысль о верблюде в Аравийской пустыне. Не больше. У генерала своих забот хватает. Покойная жена оставила ему кучу долгов, а чахоточная дочь делает все новые и новые. Он экс-министр, отставной генерал, видное лицо; он встречается со столь же видными лицами, у него не остается времени на мелюзгу. Но и будь у него время и желание и начни он говорить про то, что у него внутри, а я про то, что у меня внутри, мы все равно остались бы чужими друг для друга, хотя стояли бы друг против друга. Пространство разделяет нас, словно слона на берегу Замбези от верблюда в Аравийской пустыне.
Книга, литература — единственное место, где человек преодолел барьер, нашел себя, нашел других… думает найти.
Сменивший Жулика Микус, устроившись на свободном стуле, мурлычет на полную мочь. Дедушка раскуривает папиросу и начинает обстреливать спичками кота. Бабушка широко улыбается: «Ишь ты, как дед тебя обижает!» Некоторые спички падают в сухие стружки, никто из-за этого не волнуется. Сумерки становятся все гуще, все темнее, скоро надо будет зажигать огонь. Мы не торопимся с этим, точно боясь расстаться с уютным вечерним мигом. Я гляжу, как огненные саламандры кувыркаются в сосновых поленьях, думаю, какая странная вещь искусство. Оно способно вознести тебя на крыльях, унести в просторы, чтобы показать то, чего бы ты не увидел никогда; оно может представить тебе чудом самое знакомое, то, что под носом, представить невиданные черты и душевные движения, стоит только это помещение с закопченными стенами озарить художническому духу.