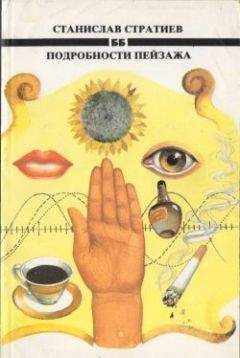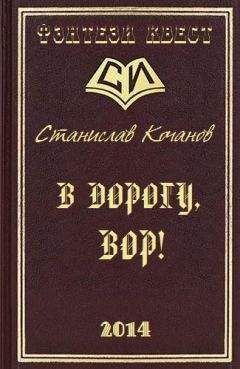Станислав Мыслиньский - Над Припятью
Уже в первые месяцы гитлеровской оккупации тысячи листовок покрыли польскую землю, и их содержание и значение были однозначны. О них стоит напомнить.
«Как стадо баранов, продала нас, поляков, польская буржуазия кровавому палачу и бандиту Гитлеру, потопившему в крови крестьян и рабочих, весь мир, чтобы спасти капиталистический мир господ и помещиков. Буржуазия продала вместе с нами и то, что для нас, поляков, является самым дорогим — нашу независимость, за которую рабочие и крестьяне заплатили своей кровью. Тысячи лучших сынов отчизны погибли, и истребление их продолжается. Тысячи сидят в тюрьмах. Ожидание помощи от Франции и Англии не приведет ни к чему, поскольку справедливость границ новой Польши, так же как и прежней, будет завоевана нами с оружием в руках. Польша станет рабоче-крестьянской. Рабочие! Во время налетов авиации покидайте фабрики и заводы и не возвращайтесь к работе. Крестьяне! Не продавайте немцам никаких продуктов и относитесь к ним как к кровавым палачам, убивающим наших братьев.
Польша возродится, но земля должна принадлежать крестьянам, а фабрики и заводы рабочим, которые на них работают.
Да здравствует народная Польша!
Да здравствует правительство рабочих и крестьян!
Да здравствует активная борьба с врагом!»
Идеи национального и социального освобождения были путеводной звездой польского народа в течение всего периода гитлеровской оккупации.
Вопрос «Что дальше?» беспокоил и самоотверженных, готовых все отдать родине бойцов из партизанских отрядов Армии Крайовой на Волыни. Что потом, после победы? Неужели опять работа на господ, как раньше?
С 1 января 1944 года настроения польского общества улучшились. Вместе с созданием Крайовой Рады Народовой страну облетела весть о ее программной декларации. Ее содержание полностью отвечало интересам трудящихся городов и деревень: передача крестьянам помещичьей и оставшейся после немцев земли, национализация фабрик и заводов, транспорта, банков… Народ должен был стать полноправным хозяином освобожденной страны, которой будут возвращены исконно польские северные и западные земли. В декларации говорилось о прочных связях и братском сотрудничестве с Советским Союзом.
Эмигрантское правительство и его представительство в стране не могли дальше хранить молчание в такой ситуации. В марте 1944 года в декларации «За что борется польский народ» было решено наконец объявить об определенных социальных реформах. Это, однако, были туманные, сильно завуалированные полумеры: раздробление промышленной собственности, парцелляция частных владений свыше 50 га, причем их хозяева должны были там оставаться и впредь в качестве управляющих государственными имениями… В эмигрантском котле все кипело. Кому на руку были эти половинчатые, более того, не обязательные «радикальные» перемены в Польше? В вопросе отношений с Советским Союзом эмигрантское правительство продолжало занимать непримиримую антисоветскую позицию.
Партизанам Гарды эта правда открывалась вместе с маршем на восток, к Припяти. Они услышали ее от офицеров 1-й армии Войска Польского. Для других отрядов Армии Крайовой это все было еще очень отдаленным и туманным. «Верхушка» Армии Крайовой не спешила делиться подобными известиями с партизанами — в основе простыми крестьянами и рабочими. А ведь эти вопросы имели для них такое же значение, как сама жизнь.
* * *Закончился очень короткий для партизан день. Заходящее солнце напоминало о приближающемся моменте выступления.
— Встать! — приказывают командиры советских и польских подразделений.
И опять глухое шлепание по лесу. Четвертая ночь подряд. Позади остались места дневных привалов: урочища Загимне, Буды, Карчаниха, болота Замоче… Каждую ночь партизаны шли по десять с лишним километров в духоте, перехватывающей дыхание, которая туманом парила над тенями людей. Они действительно походили на тени, эти измученные люди, проклинающие несносных комаров и голод, от которого подводило живот.
— С меня хватит!.. Я больше не могу.
— В глазах потемнело. О боже, я ничего не вижу.
— Родимые! Оставьте меня. Вам легче будет.
— Перестань хныкать! Ты не ребенок. Так с каждым может случиться.
— Братья! Есть… Хоть бы кроху хлеба…
— Эх, болван. Попал на сытых! Есть ему захотелось! Может, тебе ветчинки с кофейком?
— Успокойся! Не дразни, меня самого тошнит от голода.
— Мои кишки тоже пустые, но я ничего не говорю. Не жалуюсь, не ною, как этот недотепа.
— Хоть кроху!
— Все получили равные порции. Не надо было все сразу съедать. Следовало понемногу…
— Но ведь уже четвертые сутки!
— Какого черта ты подсчитываешь? Думай лучше о дивчине, как ты ее тискаешь в сарае… Или восхищайся небом над головой. Радуйся, что вообще жив и идешь к своим из этого ада…
— А может, у тебя есть что-нибудь?
— Парень! Возьми кусок сахара, пососи и не думай про еду.
— Благодарю тебя, Ваня, спасибо.
— Больше у тебя нет, дружок?
— Тише вы, болтуны! Хотите, чтобы швабы угостили нас свинцом?
— А чтоб их…
— Только бы через фронт!
— И что?
— Тогда ударим. Хватит играть в прятки. Подумай, сколько месяцев приказывали нам ждать!
— Это имело свой смысл.
— Смысл?
— Вот именно. Командиры предвидели и надеются…
— Надеются? На что?
— Что гитлеровцам удастся наконец остановить движение русских.
— А что творят оккупанты на родине!
— Дорогой! Пока Андерс вместе с англичанами и американцами доберется до Польши…
Далекий гул орудий эхом прокатился над болотами. Он доносился откуда-то с востока и все время нарастал.
Прислушивались с беспокойством и надеждой — с беспокойством, чтобы только не началось сейчас, когда они затерялись среди болот, и с надеждой, что, возможно, в нескольких километрах к западу проходит фронт… Однако далекий грохот умолк. Замерло его дрожащее эхо. Партизаны двинулись дальше, начались разговоры.
— Хорошо, что удалось вырваться из шацких лесов.
— О, там бы нас швабы всех до одного…
— Идем, чтобы бороться!
— Бороться надо. Но кто и как нас за это поблагодарит?
— Говорят об аграрной реформе.
— Дадут землю партизанам?
— Говорят также, что это большевики выдумали, чтобы посеять вражду в польском народе.
— Думаешь, наш граф отдаст землю?
— Эх, горе! Война еще продолжается, а ведь пули не выбирают…
— Ты прав. Самое главное — это тот берег Припяти…
Немного утихли. Вскоре громкий разговор раздался где-то впереди колонны. Остановились. Командир отряда забеспокоился.
— Что там делается во главе колонны? Подхорунжий Лешек, прошу проверить, и быстро!
— Слушаюсь, пан капитан!
Высокий мужчина исчезает в тени колонны, обходит сонных людей, спотыкается о корни и ноги лежащих партизан. Где-то впереди слышит проклятия, ругательства. Подходит туда.
— А черт тебя побери! Растяпа… Как ты мог уронить в болото станину пулемета?
— Сам не знаю, как меня сломило… Пан поручник! Я в самом деле…
— Под суд маменькиного сынка! — раздался рядом голос, полный негодования.
— Молчать! В советниках не нуждаюсь, — взбесился поручник Чеслав.
— Пан поручник! Это не повторится. Клянусь! — Партизан бьет рукой по груди мокрого пиджака.
— Не повторится, — передразнивает кто-то.
— Я действительно уже едва…
— Заткнись, разиня. А это должно блестеть. Знаешь как? Понял?
— Да! Сейчас почищу. — Парень снимает пиджак и проводит им по загрязненной стали.
— Я займусь тобой на том берегу… Эй, там! Вы двое, продолжайте нести, а этот пусть помогает. — Поручник устало вытирает лоб платком.
— Поручник Чеслав, старик обеспокоен этой задержкой, — подхорунжий тронул командира роты за рукав мундира.
— Это ты, Лешек? Все в порядке. Видел? И с такими надо прорываться через фронт… Вперед! Соблюдать тишину… Вперед! — Похлопав подхорунжего по плечу, он скрылся.
Тронулись. Сотни ног опять топчут гнилой камыш, кочки мха, которые вдавливаются как губка и проваливаются под человеком.
— Хорошо, что артиллерия перестала нас беспокоить, — донесся до подхорунжего обрывок разговора. Он приостановился, чтобы пропустить идущих.
— Не беспокоят, — усмехнулся подхорунжий, — не беспокоят.
…Ему вспомнилось гитлеровское орудие, которое хлопало, когда они скрылись среди камышей. Один из снарядов разорвался перед майором Ивановым, а его самого обрызгало с ног до головы зловонной тиной. Досталось и другим, идущим рядом, но никого не ранило. Однако майора это разозлило. Он выслал нескольких разведчиков расправиться с гитлеровскими пушками, сеющими панику.
Лешек попросил у Гарды позволения присоединиться к разведчикам. Вшестером они подкрались к орудию, у которого расположились пять гитлеровцев. Двое несли снаряды. Гитлеровцы сдались в плен без сопротивления. Орудие партизаны сбросили в болото. Майор похвалил за хорошее выполнение задачи. Однако в первую же ночь пленные немцы куда-то исчезли. Как было на самом деле, никто не выяснял. «Возможно, блуждают где-то среди болот», — думал подхорунжий, вспоминая этот случай. Он знал местность Волыни, это была его родная сторона. Здесь он родился, провел детские годы, приезжал сюда на каникулы. Бродил по этим пустынным местам. Отец — директор сельской школы — был доволен, что сын любит природу. Он хотел, чтобы тот унаследовал его профессию, поселился на родной стороне и стал учителем, работником просвещения, которое здесь было так необходимо. Неизвестно, как сложилась бы судьба Лешека, если бы не дядя — кадровый офицер. Поручник Ян Жалиньский произвел впечатление на молодого человека своим мундиром и рядом крестов и медалей, полученных за участие в сражениях. И Лешек пошел в офицерское училище. После сентябрьской катастрофы возвратился сюда…