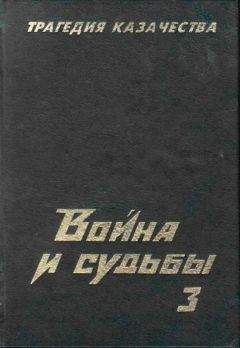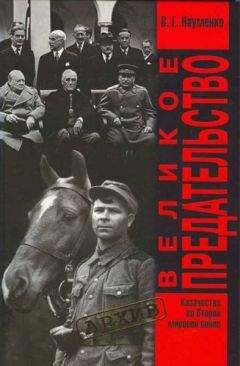Николай Тимофеев - Трагедия казачества. Война и судьбы-5
Вот такой хитрый уровень.
Любопытство — любопытством, а работа — работой. Уже не помню, какая была тогда продолжительность рабочего дня: девять или десять часов, но эти часы доставались нам нечеловечески трудно, и к вечеру ты возвращаешься в барак ни живой, ни мертвый.
Каторжные орудия труда: лопата, кирка, тачка — быстро превращали любого, даже физически крепкого человека в «доходягу», а то и в следующие стадии лагерного состояния: в «фитиля» или «огня». «Огонь» — это уже крайняя стадия состояния человеческого существа, когда в нем уже не остается ничего человеческого, ни в физическом смысле, ни в нравственном.
В большинстве случаев «огонь» — это бывший советский интеллигент. С нашим братом «воякой» это случалось реже, но советский ГУЛАГ умел делать многое. Объяснение этому я нахожу в следующем. Во многих воспоминаниях прошедших ГУЛАГ людей рассказывается, каким невероятным психологическим ударом был для человека арест, а затем все процедуры следствия, суда и долгих этапов. Мы переносим все это значительно легче. Все это понятно и легко объяснимо. Одно дело — внезапно выдернуть человека из тихой мирной жизни, из уютной теплой квартиры, оторвать от ласковой жены и любимой дочки и бросить в тюремно-лагерный советский ад, почти без надежды вырваться когда-то из него. И другое дело для нас — попасть в тот же ад, но только из другого ада, окопного, фронтового, от разрывов бомб и снарядов, от свиста пуль и осколков, где. смерть постоянно кружилась над головой. То есть перенестись из одного ада в другой для человека гораздо легче, чем из рая в ад.
Легка или тяжела дорога в ад, сам ад все равно остается адом, и к нему привыкнуть невозможно. А мне предстояло пробыть в этом аду десять лет. В то время я даже не мог толком представить это время, оно казалось мне чем-то бесконечным, ведь моя «взрослая» жизнь была очень короткой, всего-навсего три-четыре года.
Миллионы людей прошли через сталинские лагеря, многие из них оставили свои воспоминания об этих страшных днях и годах, каждый по мере своего умения рассказывая о своих чувствах и переживаниях. Лучшими в этом смысле я считаю книги Варлама Шаламова, и я буду, наверно, не один раз упоминать его в моем повествовании, то ссылаясь на него, то споря с ним. Я не писатель, я не «инженер человеческих душ», и если я справляюсь кое-как с изложением фактов и событий моей жизни, то описывать свои (и чужие) чувства, мысли и страдания я просто не умею. Бог не дал таланта. Если же кто пожелает вникнуть поглубже в человеческие чувства советского заключенного сороковых годов двадцатого века, читайте Варлама Шаламова. И помните при этом, что я тоже был «артистом лопаты». Но я не Данте и не Шаламов.
Кормили нас плохо, очень плохо. Выдаваемые нам в виде баланды и хлебной пайки калории никак не могли возместить нам те калории, которые расходовались работой киркой, ломом, лопатой.
В школе на уроках географии я когда-то, сто лет назад, узнал такие названия, как «чумиза» и «гаолян». Теперь и то, и другое стало моей пищей, вернее, моим кормом. Эти продукты Красная Армия захватила в невероятных количествах в Маньчжурии, и они стали основным «кормом» для сотен тысяч заключенных в советских лагерях: с добавлением минтая — гнилой рыбы, заготовленной японцами для изготовления удобрений. Вонь от этой рыбы чувствовалась уже за километр-полтора от лагеря.
Чумиза — это такая мелкая-мелкая крупа, намного мельче пшена, и напоминает семена распространенного на Кубани высокого бурьяна, называемого как-то вроде «печерица» или «чемерица», уже не помню. Знаю только, что из этого бурьяна варили кашу во время войны и в злосчастный 33-й год. А гаолян — крупа, очень похожая на семена наших обыкновенных веников, которые многие кубанские хозяйки сеют у себя в огородах, только немного покрупнее. Вкус у них полностью отсутствует, а каша — какая-то синяя цветом. Давали же нам эту кашу мизерным черпачком объемом в полстакана.
Охраняли нас на работе плохо. Наша бригада при работах по выправке пути растягивалась метров на сто, а конвоиров было всего четыре, где же им было за нами уследить. Из нашей бригады побегов не было, а из колонны двое заключенных предприняли такую попытку, но через двое суток уже привезли к воротам два трупа. И два дня при выводе на работу каждую бригаду останавливали возле лежащих на земле двух оборванных кукол, еще несколько дней назад бывших живыми людьми. Затем бригадный строй поворачивали налево, минуты две заставляли смотреть на убитых, а потом уже гнали дальше. Это было такое чекистское воспитательное противопобеговое мероприятие. Мне пришлось увидеть такое один единственный раз, но люди опытные рассказывали, что это был повсеместно применяемый прием.
Беглецы, скорее всего, были убиты местными нанайцами. Нанайцы получали за каждого беглеца, живого или мертвого, по 300 рублей и по два пуда муки, а оплата мукой практиковалась еще с царских времен. Я повторяю — живого или мертвого, однако нанайцы, отличные стрелки, никогда не приводили беглецов живыми… Вообще, нанайцы очень боялись русских людей. Я знаю случай, когда двое пьяных слесарей с нашей автобазы начисто разогнали целый нанайский поселок домов в сто, хотя у каждого нанайца висит на стене три-четыре ружья, ибо настоящий охотник никогда не пойдет с одним и тем же ружьем на рябчика или на лису.
А нанайцев никак нельзя назвать трусливым народом. Например, у них считалось позором убить медведя из ружья, причем позор этот распространялся и на потомков. Так и говорили: это, мол, идет тот самый, у которого дед убил медведя из ружья.
Охотились же на медведя так: двое специально дрессированных на медведя собак обнаруживали медведя в тайге и сажали его на землю. Собаки носились вокруг медведя навстречу друг другу и не давали медведю встать, хватая его сзади за «штаны». А охотник тем временем вешал ружье на сучок, вытесывал тонкую жердину, насаживал на нее стальное острие и с такой самодельной рогатиной и ножом шел на медведя. Собаки, случалось, гибли. Но я не слышал ни об одном случае, чтобы в такой схватке пострадал нанаец.
Бригадир Соловьянов относился ко мне нормально, ничем не выделяя, но это продолжалось недолго. Рассказываю, почему.
Когда мы находились на карантине, переписка не разрешалась, а когда перешли в общую зону, нам разрешили посылать одно письмо в месяц, с обязательной проверкой лагерной цензурой. Я сразу же написал письмо матери и сообщил ей свой, теперь уже возможный для ответа адрес. Я долго думал, как мне сообщить матери о суде и сроке, но так ничего путного и не придумал и написал что-то туманное и уклончивое.
Через два месяца я получил посылку, первую посылку в лагере. В посылке была кукурузная крупа, небольшой кусочек сала, немного фасоли и две большие пачки листового табаку — в ту пору колхозы нашей станицы занимались табаком. Правда, при проверке посылки на вахте проверяющий надзиратель, понюхав табак и сказав: «Ой, как хорошо пахнет!», половину табака забрал себе, но это по тем временам и тем порядкам было еще слава Богу.
Тут же, на вахте, меня предупредили о том, что на меня по дороге до барака могут напасть, но наш барак находился очень близко от вахты, и я успел проскочить без приключений, хотя какие-то темные фигуры возле меня появились.
Сразу же в бараке я выделил достаточную, по моему мнению, долю для бригадира и отнес все ему в угол барака. При этом я ожидал от него хоть какое-нибудь выражение благодарности, но он как-то странно посмотрел на меня и отвернулся, не произнеся ни слова. Меня это ничуть не обеспокоило: мало ли по какой причине у человека может испортиться настроение? Но уже на следующий день бригадир разговаривал со мной резко и даже грубо, чего до сих пор я никогда за ним не замечал.
Мне быстро разъяснили, что к чему. «Посылочники» в лагерях составляют особую касту. Но каждый «посылочник», получая посылку с чем-то съестным и постоянно находясь в окружении до крайности голодных людей, понимает, что желание заполучить это самое съестное возникает у многих людей, причем, людей дерзких и озверелых. И среди них обязательно найдутся такие, которые предпримут попытки отнять, ограбить «посылочника», не гнушаясь при этом любой формы насилия, и могут избить и даже искалечить, а при сопротивлении и убить.
Поэтому каждый «посылочник», желающий хоть как-то воспользоваться присланными ему продуктами, обязан иметь «крышу». В качестве «крыши» может быть или авторитетный блатной, или бригадир, имеющий нужные связи с уголовной верхушкой колонны, или же кого-нибудь из вольного лагерного начальства, которые почти всегда имеют нужные контакты. И тогда, хотя у «посылочника» и могут что-то украсть, но уж отобрать, отнять, а тем более избить его, искалечить никто не сможет.
Лагерная этика (если только это можно назвать этикой) взаимоотношений между «посылочником» и «крышей» требовала, чтобы «посылочник» не решал своей волей, что он согласен выделить «крыше» из содержания полученной посылки, а чтобы он предоставлял «крыше» всю посылку, и «крыша» могла оттуда взять все. что пожелает. Я не выполнил этого ритуала и заслужил тем самым гнев и ненависть бригадира, причем, сделал это не только по причине своей «зелености» и незнания всех этих порядков. Если бы даже и знал все это, я все равно не поступил, как требует та самая пресловутая «этика». В условиях советских лагерей того времени сохранить человеческое достоинство мог далеко не каждый, и я уже видел немало людей, потерявших человеческий облик и готовых пресмыкаться перед кем угодно за самую мелкую подачку: за возможность дохлебать остатки баланды, за возможность докурить остаток окурка и так далее.