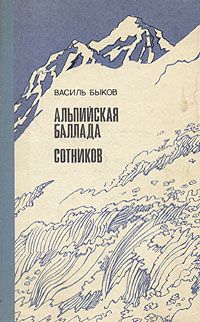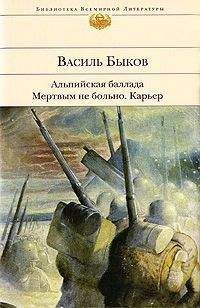Василь Быков - Альпийская баллада
Иван поверх ее головы оглядел далекий заснеженный хребет и вздохнул:
— Нет, все нельзя.
— Нельзя? Нон?
— Нон.
Она поняла и также вздохнула, а Иван разостлал на земле тужурку и положил на нее этот более чем скромный остаток припаса. Предстояло отмерить две равные пайки.
Он старательно разламывал хлеб, раскладывая кусочки на две части и чувствуя голодную несдержанность Джулии. В его душе росло новое чувство к ней — то ли братское, то ли даже отцовское, доброе и большое. Оно переполняло его уважением к ней, такой по-девичьи неприспособленной к великим невзгодам войны и такой бездумно решительной в своем почти подсознательном, словно у птицы, стремлении к свободе.
Иван сосредоточенно делил хлеб. Каждый ломтик, каждая крошка взвешивались их зоркими взглядами. Он сознательно сделал одну пайку побольше, потому что в другой была горбушка, что согласно лагерной логике считалось более ценным, нежели такой же по весу кусок мякиша. Когда все было разделено, остаток граммов двести Иван засунул в карман тужурки.
— Это тебе, это мне, — сказал он просто, без традиционного ритуала дележки, и подвинул ей кусок с горбушкой. Она решительно вскинула смоляные брови:
— Нон. Это Иван, это Джулия. — И поменяла куски местами.
Он глянул ей в лицо и улыбнулся:
— Нет, Джулия, не так. Это тебе.
Потом быстро взял с тужурки свою порцию. Джулия с шутливым недовольством поморщилась и вдруг неожиданно сунула одну свою корку в его руку. Он с коркой тотчас подался к девушке, но та, смеясь, увернулась, вскинула руки с пайкой, чтобы он не достал их. Иван все же дотянулся до рук, Джулия отшатнулась, невольно коснувшись его грудью, и, чтобы удержаться, ухватилась за его плечо. Смех ее вдруг оборвался. Неожиданная близость заставила его смутиться. Пересилив в себе новый, неосознанно-радостный порыв, он отодвинулся в сторону и сел на полу тужурки. Она же, как девчонка, лукаво улыбнулась, взмахнула ресницами и стала поправлять на груди куртку.
— Бери, ешь. Это же твоя, — сказал он, пододвигая ей корку.
— Нон.
С озорным упрямством в глазах, поблескивая зубами, она принялась грызть свою горбушку.
— Бери, говорю.
— Нон.
— Бери.
— Нон, — не сдавалась она, смеясь глазами.
— Упрямая. Ну как хочешь, — сказал Иван и откусил от своего куска.
Она быстро проглотила все, разумеется, не наелась и тайком стала поглядывать на оттопыренный карман тужурки. Иван, неторопливо жуя, замечал ее взгляды и невольно сам начал думать: а не съесть ли все без остатка, чтоб хоть один раз утолить голод? Но все же усилием воли отогнал эти мысли, потому что слишком хорошо знал цену даже и такому крохотному кусочку, как этот.
— Еще хочешь? — спросил он наконец, доев сам.
Она с подчеркнутой решимостью, словно боясь передумать, покрутила головой.
— Нон! Нон!
— А это? — кивнул он на корку, все еще лежавшую на середине тужурки.
— Джулия нон.
— Тогда давай так: пополам.
— Вас ист дас — пополям?
Девушка вопросительно сморщила носик. Солнце светило ей в лицо, и она невольно гримасничала, словно шутя дразнила Ивана.
Он разломил корку и одну часть дал ей. Она нерешительно взяла и, откусив маленький кусочек, посасывала его.
— Карашо. Гефтлинген чоколядо.
— Да уж при такой жизни и хлеб — шоколад.
— Джулия бежаль Наполи — кушаль чоколядо. Хляб биль мале — чоколядо много, — сказала она, щуря темные, как ночь, глаза.
Иван не понял:
— Бежала в Неаполь?
— Си. Рома бежаль. От отэц бежаль.
— От отца? Почему?
— А, уна… Една историй, — неохотно отозвалась она, еще откусила кусочек и пососала его. Потом с чрезмерным вниманием осмотрела корку. — Отэц хотель плехой марито. Русско — сто муж.
Муж! Это слово неожиданно укололо его сознание, он сжал челюсти и нахмурился. Она, видимо, почувствовала это, с лукавинкой в глазах искоса взглянула на его омрачившееся лицо и усмехнулась:
— Нон марито. Синьор не биль муж. Джулия не хотель синьор Дзангарини.
Иван, все еще хмурясь, спросил:
— А почему не хотела?
— О, то биль уно сегрето.
— Какой секрет?
Она, бросая смешливые взгляды то по сторонам, то исподлобья на него, сосала корку, а он сидел, уставившись в землю, и дергал с корнями пучки травы.
— О, сегрето! Маленько сегрето. Джулия любиль, любиль… как ето русско?.. Уно джовинотто — парень Марио.
— Вот как? — сказал он и отбросил вырванный пучок травы, ветер сразу рассеял в воздухе травинки. Иван повернулся боком. Теперь он почему-то не хотел смотреть на нее и лишь мрачно слушал. А она, будто не чувствуя этой перемены в нем, говорила:
— Карашо биль парень. Джулия браль пистоля, бежаль Марио Наполи. Наполи гуэрро, война. Итальяно шиссен дойч. Джулия шиссен, — она вздохнула. — Партыджано итальяно биль мало, тэдэски мнего.
— Что, против немцев воевали? — догадался Иван.
— Си. Да.
— Ого! — сдержанно удивился он и спросил: — А где же теперь твой Марио?
Она ответила не сразу, поджав колени к груди, гибкими руками обхватила длинные ноги и, положив на них подбородок, посмотрела вдаль:
— Марио фу уччизо.
— Убили?
— Си.
Они помолчали. Иван уже превозмог свою скованность, взглянул на нее. Она, став серьезной, выдержала этот взгляд. Потом глаза ее начали заметно теплеть под его взглядом. Недолгая печаль в них растаяла, и она рассмеялась.
— Почему Иван смотри, смотри?
— Так.
— Что ест так?
— Так есть так! Пошли в Триест.
— О, Триесте! — она легко вскочила с травы. Он также встал, с неожиданной бодростью размашисто перекинул через плечо тужурку. По огромному полю маков они пошли вниз.
Солнце припекало все больше. Тень от Медвежьего хребта постепенно укорачивалась в долине, знойное пепельное марево дрожало на дальнем подножии горы, окутывало лесные склоны. Только снежные хребты вверху ярко сияли, выставив, как напоказ, каждое блеклое пятно на своих пестрых боках.
— Триесте карашо. Триесте партыджано! Триесте море! — оживленно лепетала Джулия и, очевидно, от избытка переполнявших ее радостных чувств запела:
Ми пар ди удире анкора,
Ля воче туа, им мэдзо ай фьорд
[Мне до сих пор слышится
Твой голос среди цветов (итал.)]
Она негромко, но очень приятно выводила напевные слова. Он не знал, что это была за песня. Мелодичные ее переливы напоминали мерное волнение моря. Что-то безмятежное и доброе, очаровывая, влекло за собой…
Пэр нон софрире,
Пэр нон морире,
Но ти пенсо, э эти амо…
[Чтобы не страдать,
Чтобы не умирать,
Я думаю о тебе и тебя люблю… (итал.)]
Иван затаив дыхание слушал этот мелодичный отголосок другого, неведомого мира, как вдруг девушка оборвала песню и повернулась к нему:
— Иван! Учит Джулия «Катуша»!
— «Катюшу»?!
— Си. «Катушу».
Ра-а-сцетали явини и гуши,
По-о-пили туани над экой… —
пропела она, откинув голову, и он засмеялся: так это было неправильно и по-детски неумело, хотя мелодия у нее получалась неплохо.
— Почему Иван смехио? Почему смехио?
— Расцветали яблони и груши, — четко выговаривал он. — Поплыли туманы над рекой.
Она со смешинкой в глазах выслушала и закивала головой:
— Карашо. Понималь.
Ра-асцетали явини и груши… —
— Вот теперь лучше, — сказал он. — Только не явини, а яблони, понимаешь? Сад, где яблоки.
— Да, понималь.
С усердием школьницы она начала петь «Катюшу», отчаянно перевирая слова, и оттого ему было смешно и хорошо с ней, будто с веселым, ласковым, послушным ребенком. Он шел рядом и все время улыбался в душе от тихой и светлой человеческой радости, какой не испытывал уже давно. Неизвестно откуда и почему родилась эта его радость — то ли от высокого ясного неба, щедрого солнца, то ли от картинного очарования гор или необъятности простора, раскинувшегося вокруг, а может, от невиданного торжества маков, удивительно крепкий аромат которых наполнял всю долину. Казалось, чем-то праздничным, сердечным дышало все среди этих гор и лугов, не верилось даже в опасность, в плен и возможную погоню и почему-то думалось: не приснился ли ему весь минувший кошмар лагерей с эсэсманами, со смертью, смрадом крематориев, ненавистным лаем овчарок? А если все это было на самом деле, то как рядом с ним могла существовать на земле эта первозданная благодать — какая сила жизни сберегла ее чистоту от преступного безумия людей? Но то отвратительное, к сожалению, не приснилось, оно не было призраком — их разрисованная полосами одежда ежеминутно напоминала о том, что было и от чего они окончательно еще не избавились. И тут, среди благоухающей чистоты земли, эта их одежда показалась Ивану такой ненавистной, что он сорвал с себя куртку и прикрыл ее тужуркой. Джулия перестала петь и, улыбнувшись, осмотрела его слегка загоревшие, широкие плечи.