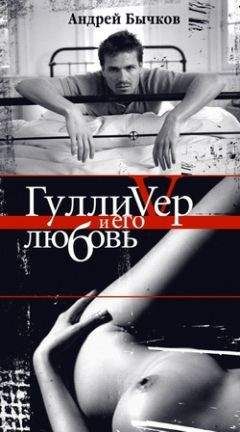Марк Гроссман - Засада. Двойное дно
— Где же — как молнии? Ворона — и та быстрее по воздуху носится.
— Хм-м, — вступает в разговор Намоконов. — Не лучшая шутка, однако.
— И не шутка вовсе. Конечно, не о прямой скорости речь. Птице никак не угнаться за истребителем. Но если расстояние, что пролетают «мессер», пернатые и насекомые за одно время, сравнить с длиной их тел, вот тогда можно очень удивиться. Стриж, допустим, мчится впятеро быстрей истребителя. Маленькая пичуга успевает за час одолеть расстояние почти в девять тысяч раз большее, чем длина ее тельца. Еще резвее движется шмель.
— Как же у них получается? — недоумевает Горкин. — Летят-то, вроде бы, тихо.
— Как? Тельце легкое, крылья большие. И машут ими непостижимо быстро. Тот же комар четыреста, а то и пятьсот, даже шестьсот раз в секунду крылышками действует. А пропеллер лишь тридцать раз оборачивается за тот миг.
— Хорошо вы все это знаете, товарищ старшина, — искренне хвалит Варакушкин. — Не иначе до войны учителем были.
— Нет, Алеша. Я книги любил читать. И про птиц, и про звезды, и про рыб.
— Ушицы бы теперь похлебать! — мечтает Горкин. — Превосходная рыбка у нас в Донце водится!
— В Донце! — сдерживает улыбку старшина. — Кончим войну — поедем на юг Урала. Там — рыбка!
Волжанин Кунах не может скрыть иронии:
— Какая-такая там, в ваших лужах, рыбка?
— Лужи! Скажет тоже! Только во сне могут присниться озера, подобные нашим! Ах, господи! Залезешь, бывало, на скалу да поглядишь вниз: то оно синее, то голубое, а то зеленое. А спустись к воде — и увидишь все до дна, и сидят на донном песке валуны из мрамора и гранита. А по закоулкам озерным бродят длинномордые щуки, — красота необыкновенная. Метр длины, пуд веса.
Кунах откровенно смеется.
— Зазнаешься, волжанин! — сердится Смолин. — Встречали и поболее щук: и на два, и на три пуда. А сиг, карп, лещ! Ты, небось, лишь в книгах о них читал!
Макар опять ухмыляется и не отвечает.
Зато включается в разговор Мгеладзе. Он крутит свои усишки и заявляет с полной уверенностью:
— Зачем спорить? Пустой крик. Черноморский бычок и скумбрия, старшина! Это — рыба!
— Эка хватил! — морщится Кунах. — В твоем бычке — ладонь росту, да и та — две трети голова!
— Голова — невредная штука, — сверкает глазами южанин. — Ее многим не хватает, товарищ ефрейтор!
Кунаху лень отбиваться — и он молчит.
Но Шота уже разошелся — и его не удержать.
— Нет, ты никогда не был в Грузии, — торжественно восклицает он, — и ты не знаешь моря, и бешенства цветов, и деревьев, ты не знаешь, когда приходит весна! Ты — темная личность, и мне жалко тебя, Макар!
…А дождь льет и льет, и никто во вселенной не знает, когда наконец прекратится эта вакханалия озверевшей воды.
Сырые шинели не просыхают на солдатах, и один этот запах, кислый дух прелого сукна, способен свести с ума, вызвать перебои сердца.
Смолин внимательно осматривает бойцов, вздыхает, негромко приказывает:
— Выходи строиться!
Все с удивлением смотрят на взводного: «Какой еще строй в такую погоду?!»
Солдаты спускаются с нар и хлюпают к выходу.
Дождь хлещет по лицам, по черным от влаги плащ-палаткам, по облинявшим кирзовым сапогам.
— Что такое? Куда идем? — шепотом справляется Мгеладзе у Горкина.
— Ничего особенного, — отвечает отделенный. — Учиться идем. Чем лучше воевать будем, тем скорей война кончится.
Андрей разводит короткие руки и пожимает плечами, всем своим видом показывая, что ему, как и всем, несладко под этим проливным дождем.
— Надо — так надо, Шота, чтоб черти на том свете с Гитлера не слезали!
ПУТЕШЕСТВИЕ В СВОЕ ПРОШЛОЕ
Из чащи на просеку выскочил заяц, заковылял по белотропу, — и вдруг замер, будто его к пеньку гвоздями приколотили.
Посреди просеки, тускло мерцая, тянулись рельсы. Заяц поднял одно ухо, другое, напряг тощее тело. В следующее мгновение он, точно его подбросила пружина, взлетел в воздух, перевернулся и, едва прикасаясь к сухому, почти бестелесному снегу, заработал длинными ногами.
На вырубку, тяжело отдуваясь, выехал паровоз, затащил под деревья состав и угомонился.
Народ как мог и чем мог, поддерживал свою армию. За эшелонами с оружием и боеприпасами шли поезда с подарками: домотканые варежки и табак, портянки из сукна и фланели, вышитые кисеты, сухие колбасы, вино. Ехали отцы и матери, спешило на передовую все Отечество, чтобы с болью, радостью и надеждой прижать к груди детей своих.
Сюда, на Северо-Запад, с поистине боевой скоростью прибыли одна за другой делегации Среднего, Южного и Западного Урала.
Теперь же, на запасную ветку под Валдаем, примчался второй эшелон челябинцев. На головном вагоне пламенел лозунг: «С Новым, победным годом!»
Из классного вагона на снег спрыгивали делегаты. Один из них волок в обнимку огромного Деда-Мороза, могучего и краснощекого, как иной миасский гранит.
Навстречу уральцам спешили работники Политуправления фронта.
Вскоре все вернулись в вагон.
В тесном салоне к члену Военного Совета Богаткину подсел стройный сухощавый старик, спросил корпусного комиссара:
— Земляков моих на фронте много, Владимир Николаевич?
— Хватает.
— Сумеем быстро повидать их?
— Попробуем устроить.
Вагон подключили к телефонной линии фронта, и член Военного Совета приказал связать его с дивизией Миссана.
— Гостей примешь? — спросил он. — Ну, смотри, чтоб не сердились на вас гости-то.
Через час за делегатами примчались «виллисы» из Валдая.
— Дорожки тут! — покачивал головой старик, сотрясаясь на ухабах и гатях, перемолотых гусеницами, колесами, волокушами.
В полдень машина въехала в лес и остановилась возле блиндажа, занесенного снегом. Это оказался наблюдательный пункт комдива.
Где-то рядом ухали пушки, натужно ревели моторы.
Прямо из машины старик попал в объятия дивизионного начальства, выпил с ним по одной, «самой маленькой» и тут же попросил свести его с земляками.
— Тогда поехали прямо в полк, — сказал Миссан. — Ждут.
Через четверть часа они вошли в достаточно просторный блиндаж полкового штаба. Здесь все уже были предупреждены, и комполка кивнул адъютанту.
Он вышел и тотчас вернулся с группой бойцов.
Невысокий русоволосый старшина вскинул ладонь к шапке.
— Командир взвода разведки Смолин.
Услышав фамилию, гость прищурил глаза, всматриваясь в старшину, и побледнел. Тихо подошел к фронтовику и сказал почти неслышно:
— Партийный работник Кузьма Морозов.
Они стояли друг против друга, боясь ошибиться и потерять свою нечаянную радость. И только поняв, что ошибки нет, обнялись, и землянка наполнилась их восклицаниями и звуками неловких мужских поцелуев.
Уральцы еле-еле успели условиться о встрече вечером, и гостя потащили на митинг, затем на передовую. Он легким быстрым шагом обходил землянки, спускался в окопы стрелков и даже полчаса пролежал в укрытии снайпера Санжеева, знаменитого на весь фронт.
— Ударить бы разок из твоей оптики… — шепнул он буряту. — Руки чешутся.
— Не положено, — отказал снайпер.
— Гм, «не положено»! — усмехнулся старик. — Мне это полагалось еще тогда, когда ты на палке верхом ездил.
И весело подмигнул солдату.
На огневых позициях артиллерии комбатр, огромный рябой детина, увидев гостей, закричал так, что с веток посыпался снег:
— По фашистам, в честь челябинцев — ба-атарея, — огонь!
И пушки разом рявкнули, а у Морозова долго звенело в ушах и перед глазами мелькали оранжевые спирали. Придя в себя, старик спросил:
— А куда «огонь!», братец? В чистое поле? А?
Комбатр усмехнулся.
— Добро зазря не переводим, батя. Загодя репера? пристреляли. К приезду дорогих гостей.
— Ну, коли так, спасибо.
— Не стоит благодарности. Для себя стараемся.
Старик обнял комбатра.
— Старайся, сынок.
Вечером, вернувшись в блиндаж, уралец подошел к командиру полка.
— Слышь-ко, майор, — попросил он. — Отпусти со мной Смолина. Завтра вернется.
Офицер пожал плечами, но отказать не решился.
— Ну, говори же, говори! — торопил старик старшину, когда они наконец вошли в вагон. — Обо всем и поподробней, пожалуйста…
В салоне было тепло и тихо. На столе отрывисто, будто во сне, позванивал телефон, стеклянной скороговоркой бубнили стаканы.
Остальные делегаты еще не вернулись с передовой, из фронтового дома отдыха, из медсанбата, из редакции газеты «За Родину».
Старик усадил старшину, открыл бутылку вина.
— Господи, сколько лет прошло, — бормотал Кузьма Дмитриевич, роясь в чемоданчике и доставая оттуда провизию. — Чай, двадцать годов с тобой не виделись. Когда из Сказа уехал-то?