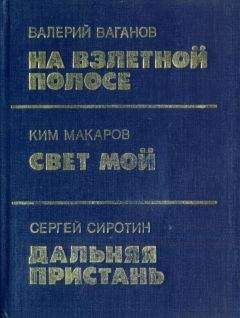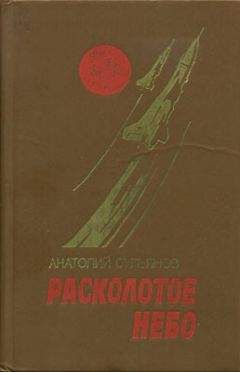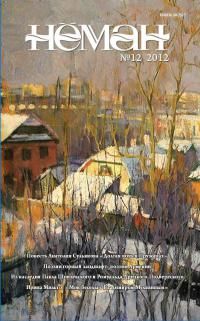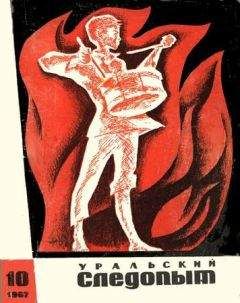Виктор Костевич - Подвиг Севастополя 1942. Готенланд
Смирнов резко дергает меня за рукав и шепчет, словно кричит:
– Смотри, что делают, падлы!
Что, что… Свое дело. Человек пятнадцать, в одних трусах, лежат на берегу, с винтовками в руках, а другие – тоже в трусах и тоже с винтовками – партия за партией гонят в воду пленных красноармейцев и краснофлотцев, из самых слабых, раненых и обессиленных. Гремят выстрелы, кто-то пытается драться, кто-то плывет. Бесполезно.
Стрелецкая бухта? Вроде бы да.
* * *Солнце давно в зените и жарит на всю катушку. Не слабей, чем в какой-нибудь Греции – той самой Греции, откуда приплыли к нам греки, основавшие здесь Херсонес.
Однако сравнивать я не могу. Я не был в Греции и никогда не буду. И политрук, что, шатаясь, идет неподалеку, и черт его знает, как я догадался, что он политрук, петлиц у него не имеется, – он там не будет тоже. И тот вон матрос, что валяется в кювете с пробитым пулей затылком… А вот этот шагающий рядом немец, был он в Греции или нет? Теоретически мог, но не факт. Бесспорный факт другой – если я дернусь, он всадит мне пулю в спину. Возможно, без желания, но всадит.
И ведь наверняка этот немец, очкарик, с испуганным взглядом и в каске не по размеру, маленький даже по сравнению со своим укороченным «маузером», вовсе не хочет никого убивать. Но есть порядок и есть приказ, а приказ для солдата священен. И кто-то когда-нибудь скажет, что всё было просто и не было выбора: русские убивали немцев, немцы убивали русских, беспощадная логика войны, так было испокон веков, с диких племен каннибалов и троглодитов, и кому теперь дело, кто прав был тогда и кто виноват. Так получилось, ничего не попишешь.
Так, да не так. Алексей Старовольский, он тоже никого не хотел убивать, но он прицельно стрелял в немчуру – и совсем по иной причине, чем будет стрелять этот немчик. И совсем по иной причине ставил огневое заграждение Бергман. И не по приказу и не по логике войны умерли Левка и дед Дмитро Ляшенко. Приказ приказом, но было ведь что-то еще, и точно известно что. А у очкарика, что испуганно таращит зенки на меня и политрука, в страхе думая, что если мы побежим, то ему придется стрелять, – у очкарика у этого, у которого дома мамка, а здесь винтовка «M-98», нет ничего, кроме страха и приказа. И потому он лучше тех своих, у кого есть что-то еще, – тех, что идут по трупам и убивают нас во имя поганой идеи.
Парадокс – мы лучше, чем он, они хуже, чем он, но причина одна и та же – есть что-то кроме страха и приказа.
* * *Луч злого июльского солнца вонзается прямо в темя, и мы бредем из херсонесского ада в другой, еще горше прежнего, в чем сомневаться никак не приходится.
На перекрестке в колонну врезается грузовик, метрах так в двадцати от меня. Тяжелый, с открытым кузовом. На нем орава пьяных, в немецкой форме, но кудахчут они не по-немецки. Размахивают руками, показывают на нас, на русских, пальцами. Немцы орут в ответ, выражают свое недовольство, «добровольцы» с хохотом стреляют из винтовок в толпу, кто-то бежит от дороги, немцы стреляют вслед.
Вновь наведен порядок, машина переезжает через шоссе, движение возобновляется. Обходим расплющенного по земле человека, раздавленного, словно лягушка. Немчик судорожно сглатывает и спотыкается на ровном месте.
* * *Сколько на ваших фашистских термометрах? Сорок? Я ладонью провожу по лицу, пота нет, обезвоженность полная. Улавливаю взгляд политрука и вижу в нем смертельную ярость, ту, про которую в песне. Мы лучше, понимаете, суки кровавые, лучше…
Пока я могу идти, пока могу хоть на что-то надеяться, я буду идти. Я иду… Но если пойму, что больше нет сил, я распахну гимнастерку. Вот она, моя тельняшка, цельсь!
Политрук качается сильнее и сильнее, я понемногу отстаю, чтоб при необходимости оказаться с ним рядом, поднять, поддержать, не позволить упасть. Левченко со Смирновым меня понимают и делают то же, что я. Немчик косится на нас в тревоге, мы стараемся на него не смотреть.
Он испуган, сомневаться не приходится. Испуган и мечтает об одном – убраться из этой проклятой страны, куда его, совсем еще не жившего, закинули приказы безумного австрияка. Покинуть ее навсегда и забыть.
Но это сейчас он мечтает забыть. А что он будет говорить, если выживет? Лет через двадцать, через тридцать, в кругу семьи, среди друзей? Я уверен, что я это знаю.
Ну, что ты уставился, что? Марширен, марширен, марширен. Или останешься здесь, на дороге, как остаются матросы и комиссары.
* * *Пройдет не так уж много лет, и вы, чтобы забылось то, ради чего – не мы, а вы – вломились в наш дом, жгли, убивали, насиловали, станете выставлять нас свирепой ордой. Бездумными винтиками режима, бездушными насельниками бесчеловечной земли. Врагами цивилизации, не рассуждающими и не размышляющими, способными лишь пить, воровать и бесчестить ваших женщин.
И спустя десятилетия к вам – богатым и сытым, довольным, лощеным, банккауфманам и банккауффрау, – в общем хоре присоединятся те, кого грабили, убивали, насиловали вы. И еще более сладострастно, чем вы, станут оплевывать и охаивать нас, не в силах простить, что не сумели спасти себя сами – и пришлось дожидаться русских. И в дружном хоре бывших врагов, их пособников и их жертв потонут наша правда и наша боль, обессмысленные пустыми словами, что русские-де убивали немцев, немцы убивали русских, война всегда остается войной, – а наши робкие протесты покажутся истерикой, паранойей и гримасами запоздалого реваншизма.
Не так ли, очкастый немчик? Странно, но мне очень хочется, чтобы ты пережил эту войну. Не потому ли, что ты последний, кто видит меня живым? Давай, пацан, шевели ногами, выпей из фляжки воды – и вперед.
* * *Я пытаюсь поддержать политрука и получаю по рукам винтовочным прикладом. Потом получаю опять – на этот раз в спину. Очкарик? Боже, только бы не он.
Грохочет выстрел – один из многих, гремящих сегодня в окрестностях города, в бухтах, балках, прибрежных гротах. Прощай же, товарищ, тоже один из многих. Испуганно воет пес.
Я снова вижу очкастого немца. На лице его страх и трепет. Нет, стрелял и ударил не он. Ему самому паршиво. Тошно, погано, стыдно. Он бредет чуть поодаль на подгибающихся ногах, меся сапогами пыль, пряча от нас глаза. Тащит винтовку, тяжелый ранец, подсумки, лопатку, противогаз. В пропитанном потом толстенном кителе. Невольный триумфатор, он не рад своей победе. Ему не нужен завоеванный им Севастополь. Он хочет домой, в Мекленбург, Баден-Баден, Ганновер. Он способен испытывать стыд.
* * *Опять кричат, опять стреляют, кружится голова. Боль растекается по ноге, еще немного, она откажет и… Над дорогой висят тучи мух, сытых, нажравшихся мертвечины, обильной людской убоины. Левченко незаметно подставляет плечо, держись, капитан-лейтенант. Смирнов пытается прикрыть нас обоих от конвоиров. Но немчик видит, видит, смотрит и молчит. Озирается опасливо – и молчит. Перебирает из последних сил ногами, задыхается, молчит.
Небо становится черным, я начинаю падать, Левченко не успевает меня подхватить, но подхватывает кто-то еще. Смирнов… Из последних сил выпрямляю ноги. Шаг, другой, только бы не свалиться.
Снова вспыхивает свет, резкий, слепящий, густой. Краешком глаза вижу, как сильно отставший немчик вдруг ускоряет шаг. Торопится, спотыкается, чуть было не падает сам. Догоняет и в последний буквально момент успевает прикрыть нас троих от взгляда пьяного вдрызг фельдфебеля. Фельдфебель стоит на обочине и водит влево-вправо пистолетом. Рядом валяются трупы. Пять или шесть, не меньше.
Одолев не помню который подъем, я на минутку задерживаюсь. Перевести дыхание, вдохнуть хоть немного воздуха, ощутить на лице дуновение ветерка. Вижу нашу бесконечную колонну. Она змеится по разбитому шоссе. По сторонам хлопочут группки немцев, восстанавливают связь, ставят рядом с уцелевшими новые телеграфные столбы. На востоке, пока с трудом, по всё еще курящимся дымкам, угадывается оставленный неделю назад Севастополь. На севере поблескивает бухта. Омега. Делаю шаг вперед, начинаю медленный спуск.
Рядом по-прежнему движется немчик. Старается больше не отставать. С напряженным лицом идет возле нас, стиснутые губы, решимость в глазах. Рука сжимает ремень винтовки, из-под каски стекает пот. На краткий миг мы с ним встречаемся глазами. Очкарик смотрит на меня почти без страха.
Невольно усмехаюсь. Так мне, по крайней мере, кажется. Левченко словно бы читает мои мысли.
– Видал, капитан-лейтенант? Когда бы не этот сучонок…
– Видал, – отвечаю я. Легонько толкаю Смирнова. – Что скажешь, старшина второй статьи?
Старшина ненадолго задумывается.
– Этого можно простить.
Молча киваю в ответ.
Заключение
Нам неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба капитан-лейтенанта Сергеева. К исходу последнего штурма в Севастопольском оборонительном районе находилось около 78 тысяч солдат, матросов, командиров и политработников. Точные данные о том, сколько из них погибло в последние дни боев и сколько попало в плен, отсутствуют.