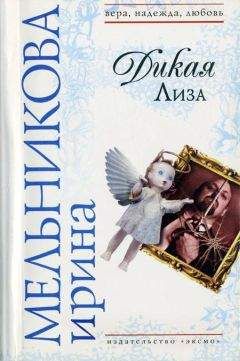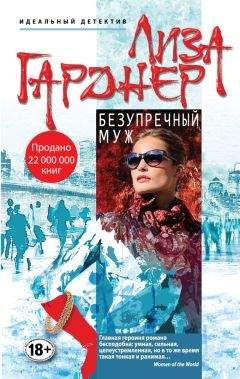Илья Эренбург - Буря
В восемь часов Вальтер ушел на службу. Гильда стояла возле ворот. Женщины гадали — что было ночью? Госпожа Мюллер (ее муж в ПВО) говорила: «Это наша артиллерия на Одере. Русские пробовали прорваться, но Ганс сказал, что они никогда не пройдут». К Гильде подошел пятнадцатилетний Пауль Вик, сын домовладелицы; у него торчали уши, а воспаленные глаза были обведены синью. Это было на темной лестнице. Он сказал: «Я ухожу на фронт. Гильда, вы меня поцелуете?» Она рассеянно чмокнула его в щеку. Он откинул ее голову и поцеловал в губы: «Чорт возьми, солдат я теперь или не солдат!..» Когда он ушел, Гильда всполошилась: если посылают на фронт таких желторотых, значит очень плохо… Она купила «Морген-пост»; она никогда не читала газет и поэтому долго искала, где напечатано самое важное. Но в газете ничего не было о наступлении русских. Писали, что немцы успешно контратакуют в районе Эльбы. Гильда увидела статью «Зверства красных»; она не могла дочитать — слишком страшно… Курт рассказывал, что русские — азиаты, корова спит в доме, нет приличной уборной. Наши там расправлялись с населением, Курт говорил — вешали женщин. Они обозлили русских, а теперь русские пришли сюда…
Гильда говорила себе: я не трусиха, привыкла к бомбежкам. Все на месте — и развалины, и уцелевшие дома с цветами на балконах, и магазины, и трамваи. На стенах плакаты: «Победа или большевистский хаос». Почему же мне так страшно?.. Она решила купить коробочку пудры. Владелица парфюмерного магазина аккуратно завернула коробочку, отсчитала сдачу и заплакала: «Я хотела уехать в Магдебург, а машина сломалась…» Гильда подумала: может быть вернуться к Иоганне?
На вокзале сидели или лежали беженцы — трудно было пройти. Кто-то вопил: «Украли чемодан…» Женщина плакала: «Еле выбрались из Штеттина, там уже русские…» Железнодорожник удивленно поглядел на Гильду и сказал: «Голова у вас есть? Как вы хотите туда проехать? Там американцы…»
Гильда пошла назад. На стене ее дома мальчуган из «фольксштурма» тщательно выводил: «Берлин остается немецким». Пришел Вальтер. Гильда обняла его: «Господи, что же это делается? Я так боялась за тебя…» Он сказал: «Дай мне поесть. И вообще теперь не до нежностей». Она возмутилась: «Я порядочная женщина, у меня муж, как ты смеешь так со мной разговаривать? Я рискую из-за тебя жизнью. Я могла бы сейчас быть у Иоганны, там американцы… Грубое животное!» Она готовила омлет из яичного порошка, и слезы капали на сковородку.
С трудом полк майора Минаева продвигался к восточным предместьям Берлина. Немецкие фортификации были прекрасно оборудованы. Сопротивление напоминало малярию; подымалось, падало, снова подымалось. Немцы то отчаянно сопротивлялись, держались в маленьких пригородных домиках, переходили в контратаки, то неслись на запад, как осенние листья, подхваченные порывом ветра. Минаев злился: нельзя понять, что они выкинут через час… Особенно трудно дался один холмик. Минаеву казалось, что все это уже было — и горевший дом направо, и труп молодого сапера в паутине проволоки, и густой удушливый дым. Так же, как в донской степи или потом у Чернобыля, Шибанов просил «подкинуть», а генерал Лучицкий кричал в телефон «чего отстали?», и так же немцы, когда все думали, что их больше нет, открывали пулеметный огонь, и вдруг, в самую важную минуту, замолкала батарея Кожевникова. Считали километры, а эти три стоят сотни… Всю ночь продолжался бой; когда начало светать, Минаев с верхушки холма увидел серую печальную даль; туман, смешиваясь с дымом, не хотел сдаваться солнцу.
Уж двое суток, как генерал Лучицкий не ложился. Он прилег на слишком короткую кушетку, поджал длинные ноги. Теперь пустили вперед Кашкина. Хорошо, что пошли танки, фрицы заминировали далеко не все, а саперы молодцы… Можно, пожалуй, часок поспать. Но сон не шел. Вот и Берлин… Он об этом не думал, но это было в нем, как вся его прошлая жизнь, как Москва, как добрые глаза Жени, окруженные тонкими морщинками. Восемь лет назад Лучицкий (тогда он был скромным комбатом) шел по раскаленной улице Мадрида. Он уехал добровольцем в Испанию, говорил себе: повезло, все туда рвутся… Он знал, что фашисты — «враги прогресса»; знал это из книг, из газет. А на узкой, грязной уличке квартала Куатро-Каминос играли дети. Сколько в Испании детишек, подумал он (это было на второй день после его приезда). Вдруг раздался грохот. И Лучицкий увидел, как по краю мостовой тонкой струйкой текла кровь. С тех пор он многое увидел, но он не забыл того знойного дня. Двадцать второго июня он был в Бресте. Женщина в разорванном платье с ребенком на руках кричала: «Спасите!» Он посадил ее в машину. Ребенок был мертвый. Лучицкий отступал от Оскола до Воронежа. В Воронеже убили его старшего сына, студента-первокурсника. Подчиненные говорили: «Хороший командир, только суховат». А в груди его была рана, и она не заживала. Теперь он закрыл глаза и улыбался: Берлин!..
Минаев размечтался: с детства он любил сирень. Есть цветы как цветы, а в сирени что-то особенное. Может быть, потому, что цветет она весной и с нею связаны те мечты, которые находят на человека, когда тишина и размеренность длинной северной зимы сменяется грохотом, свистками паровозов, девичьим смехом, желанием кого-то полюбить, или уехать куда-нибудь подальше, словом сделать необычайное… «Вот пятерка, — сказал Минаев Оле, та улыбнулась и проглотила крохотный цветок. — Можешь не беспокоиться — счастье будет и без этого… С Мюнхебергом кончили, значит „нах Берлин“, как выражаются изысканные фрицы».
Обедали в кокетливой вилле; ели консервы на саксонском фарфоре, пили воду из хрустальных фужеров. Заместитель по политчасти Терешкович говорил: «Интересно, чей это дом? Наверно, банкира. А сейчас сидит здесь Петр Терешкович, сын потомственного ярославского плотника…»
Потом он задумался и сказал Минаеву: «Как это ты в Ярославле не был? Самый красивый город… Один бульвар над Волгой чего стоит. Живешь в Москве, можно сказать рядом, и не поглядел. Это покрасивее, чем… — Он запнулся: — Мюнхаузен?.. Ну пускай Мюнхеберг… С Таней познакомишься, научный работник — марксизм-ленинизм, и вообще она замечательная. Маечке четыре года. Я ее с начала войны не видел, в мае родилась — за месяц… Таня тогда уверяла, что она уже улыбается, а она, по правде говоря, пузыри пускала… Обязательно приезжай, глупо — пол-Европы обошли, а ты Ярославля не видал. Теперь скоро эта музыка кончится…» Ольга вскочила: «Генерал тебя спрашивает». Лучицкий сказал: «Танки прошли вперед. Можете итти. А то берлинцы ждут не дождутся…» Минаев почувствовал, как суровый генерал улыбается в телефонную трубку, и ответил: «Будет выполнено, товарищ генерал. А берлинцы денек-другой подождут, мы ведь четыре года ждали…»
Снаряд разорвался недалеко от дома, где жила Гильда. Зазвенело стекло в кухне. С Гильдой сделалась истерика. Она не боялась бомбежек, соседки и Вальтер удивлялись ее храбрости. Когда она вернулась в Берлин, она знала, на что идет… Но сейчас нервы не выдержали. Она выглянула в окно, было совсем темно, и ей показалось, что в темноте грохочут русские танки. Сейчас большевики ворвутся в дом. Хорошо, если они кинут гранату, могут начать мучить… Она выпила стакан воды, прикусила нижнюю губу, поглядела в зеркальце. Вальтер дурак. Конечно, я плохо выгляжу, ничего нет удивительного после таких ночей, и все-таки я еще недурна… Она вспомнила, как мальчишка Пауль Вик прибежал под вечер, запыхавшись сказал: «Мне дали „фаустпатрон“, тяжелый, но ничего — держу. Я не пропущу ни одного танка. Гильда, поцелуйте меня, как мужчину». Она его поцеловала, и он зашатался.
На следующий день Гильду заставили таскать мешки с песком. Она возмутилась: молодая женщина не может этого делать, у меня внутри все оборвется… Кто-то пел солдатскую песню:
Красная заря, ты встала слишком рано.
На груди моей зияет рана…
Гильда подумала: вдруг Курта убили? Не может быть! Я очень люблю Курта, больше всех, это первая любовь, значит самая настоящая, столько лет я была ему верна… Я должна ему помочь, если эти мешки его спасут, я согласна надорваться. Она вспомнила школьную хрестоматию: наш Рейн, Германия, старые дубы, гренадеры Фридриха… Рядом работал пожилой человек с лиловыми жилками на лице и с короткими седыми усами. Он все время ворчал: «У меня ишиас. Мне шестьдесят два года. Я не могу подымать тяжести. Пусть эти мальчишки сами расхлебывают…» На углу Будапештерштрассе и Кенигретцерштрассе разорвался снаряд. Гильда упала на тротуар и распластала руки, как будто плывет. Когда она встала, человек с ишиасом вытер платком штаны, потом лицо и сказал: «Доигрались! Я вас спрашиваю, сударыня, кому нужны эти баррикады? Если русских не остановили на Одере, почему их остановят на этой улице? И кто их остановит? Сопляки из „фольксштурма“? Я? Пусть Геббельс таскает мешки, он это заслужил…» Гильда подумала: у всех развязались языки. Конечно, он прав. Вальтер не хочет понять, но он туп, и потом он служит в полицайамте, он боится рассуждать. Я еще в сороковом говорила Курту, что это плохо кончится. Зачем было брать Париж, когда даже я понимала, что придется его отдать? А сколько народу погибло? Еще можно понять, что они полезли в Париж, это приманка, я всегда мечтала туда поехать. Но зачем было соваться в Россию? Курт еще до войны говорил, что это страшная страна — леса и большевики. Что они там нашли хорошего? Ночевали в одной комнате с коровой… А русские теперь пришли сюда, меня убьют, и я не знаю за что… Я еще могу кому-нибудь понравиться. Да и Курт вернется… Умирать из-за каких-то сумасшедших! Курт до войны уверял, что все обойдется, бояться нечего, потому что «мы — буря». Это вздор, я не буря, я обыкновенная женщина, я хочу спокойствия… Она таскала мешки, а из глаз текли слезы.