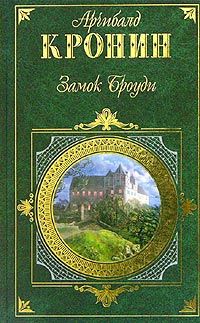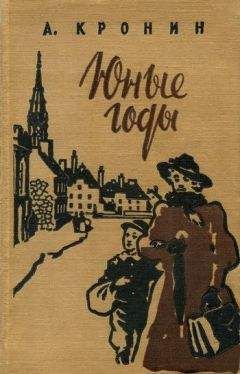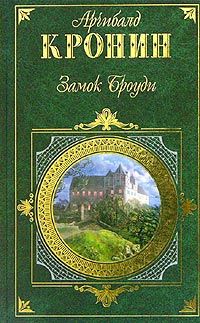Избранные романы. Компиляция. Книги 1-16 (СИ) - Кронин Арчибальд Джозеф
Генри почувствовал, как у него пересохло во рту.
– Речь идет о давно забытой истории, извлечь ее на свет сейчас – значит только причинить страдания многим ни в чем не повинным людям.
– О господи! – воскликнул Сомервилл с неожиданной грубостью. – Ну что вы такое мелете? Мы живем в середине двадцатого столетия. На щепетильности теперь далеко не уедешь. В нашем деле всегда кто-то кому-то набивает шишки. Не могу же я лично просматривать каждое слово, которое попадает в «Хронику». Я вполне полагаюсь на своего редактора и предоставляю ему самому решать подобные дела.
Пейдж не смог скрыть овладевшего им чувства горечи:
– А он, разумеется, собирается предать гласности эту историю, исходя из самых высоконравственных побуждений.
Сомервилл раздраженно дернулся и нетерпеливо взглянул на часы, словно собираясь положить конец разговору.
– Мой дорогой сэр, – сказал он, – с какой стати вы являетесь сюда и начинаете хныкать? Все это не имеет ко мне ровно никакого отношения. Я дал моим служащим в Хедлстоне указание вести газету по их собственному усмотрению и не могу отменять их решений. Ведь совершенно очевидно, что этот материал представляет только местный интерес и вопрос о нем решается местными работниками. А меня, как вы понимаете, это не касается, и я ничего об этом не знаю.
Он просто-напросто умыл руки. Пейдж понял, что, несмотря на свою полную беспринципность, Сомервилл не снисходил до того, чтобы лично копаться в грязи, а предоставлял другим делать это за себя. Пейджа захлестнул темный бешеный гнев. Он спросил с решимостью, от которой нельзя было отмахнуться:
– Зачем вам нужен «Северный свет»?
Сомервилл уже принялся было приводить в порядок бумаги на столе, но тут сразу поднял голову, заподозрив, что вопрос задан неспроста. Неужели этот ничтожный провинциал догадался, какую борьбу ему приходится вести… догадался о неудержимо возрастающих расходах, о лезущей вверх кривой выплат, о деятельности мощных концернов, которые только и думают, как бы с ним покончить? Джохем и Мигхилл собираются слиться… монополия… Флит-стрит уже столько месяцев посмеивается над его неудачной попыткой поглотить «Свет», «Аргус» приносит убытки. «Городские новости» при последнем издыхании… надо расширяться или идти ко дну. Настороженно вглядываясь в Пейджа, он ответил:
– По очень простой причине – мне надо увеличить сбыт.
– Но он и так очень велик. «Утренняя газета» расходится тиражом по меньшей мере в миллион экземпляров.
– При современной конкуренции не идти вперед значит пятиться назад.
– Под «идти вперед» вы подразумеваете увеличение тиража «Газеты» или ее двойника «Хроники»? – Пейдж, забыв о всякой осторожности и твердо решив высказать все, что думает, с трудом перевел дыхание. – В последнем номере «Обозревателя» была помещена статья о состоянии нашей прессы. Вы видели ее?
– «Обозреватель» – превосходный журнал, но я редко читаю его.
– Это подробный и беспристрастный обзор. И его выводы доказывают, что наши газеты, сохраняющие свои принципиальные позиции, старающиеся развивать читателей, вытесняются низкопробными листками… газетами, цель которых – не служение обществу, а получение самой высокой прибыли, газетами, неразборчивее, глупее, вреднее, пошлее которых не сыщешь в целом свете.
Сомервилл, сохраняя невозмутимость, чуть улыбнулся:
– Измышления клеветников. Очень жаль. В конце концов, мы стремимся только угодить массам… создать для них… как бы это выразить… атмосферу успокоения.
– Скармливая им всяческие отбросы?
– Мы даем именно то, чего они хотят.
– Нет. – Пейдж энергично покачал головой. – Человечество вовсе не столь глупо, как вам кажется. Нельзя так легко сбросить со счета наш народ. Он обладает великими качествами: мужеством, жизнерадостностью, сердечностью, юмором. Дело просто в том, что три четверти нашего населения не получают достаточного образования, чтобы противостоять вашим ухищрениям. Я не стану повторять общеизвестные истины. Ваша газета вредоносна даже не потому, что целиком заполнена эротикой, дешевыми сенсациями, не потому, что в ней столько пошлости и глупости. Страшно то, что вы искусственно насаждаете самые вопиющие предрассудки, разжигаете самые низменные страсти, цинично обливая грязью тех, кто пытается противостоять вам. Помните, что сказал Балфур? «Уж лучше я буду продавать беднякам джин, чем отравлять их таким образом». Еще пятьдесят лет обработки вашей ядовитой закваской, и вы низведете массы до состояния полного невежества. Никто лучше вас самих не знает, какое мощное орудие находится в ваших руках. Так почему же вы не обратите его на цели созидания? В наше время страна больше чем когда-либо нуждается в высокопринципиальной прессе, служащей делу просвещения. Мы были великолепны во время войны, когда жили лицом к лицу со смертью. Но теперь наступил упадок – и в политической, и в экономической, и в духовной жизни. Я убежден, что это только временное явление, но мы должны с ним покончить. Если же нет… – Пейдж замолчал, охваченный страшной физической слабостью.
Он понимал, что его речь не произвела на Сомервилла ни малейшего впечатления, и вдруг осознал, какую страшную опасность представляют собой сила и власть, если им не сопутствует в должной мере чувство ответственности. Язык не повиновался ему, во рту пересохло. Он не знал, что сказать дальше. Сомервилл, не сводивший с него жесткого, презрительного взгляда, сразу же воспользовался его растерянностью.
– Мой милый, – сказал он примирительно, – я понимаю ваши чувства. Но меня ждут дела, не будем отвлекаться от главного. Мы предлагаем вам честную и выгодную сделку. Попросту ответьте, согласны вы принять наше предложение или нет. Возможно, – продолжил он, – если вы решите уступить вашу газету, а я в этом не сомневаюсь, то пожелаете остаться в числе ее сотрудников. Ваши передовицы… обладают внушительностью, характерной для начала века.
– Нет, – сказал Пейдж угрюмо. – Не могу. Для меня вопрос стоит так: все или ничего.
– Так, значит, все?
У Генри не было сил поднять голову и взглянуть на него. Он чувствовал, что потерпел полное поражение.
– Я подумаю… Мне нужно несколько часов. Я позвоню вам ближе к вечеру.
– Хорошо. – Сомервилл поднялся. – С нетерпением буду ждать вашего звонка.
Пейдж не помнил, как вышел из кабинета.
На улице моросил мелкий дождь. Генри медленно повернулся и побрел от реки к Виктория-стрит. Слабость его возрастала, и он понял, что должен где-нибудь перекусить и как можно скорее: он почти ничего не ел со вчерашнего полудня. На противоположной стороне он заметил кафе-автомат и уже собирался сойти с тротуара, как вдруг почему-то испугался грохочущего потока мчавшихся машин, и сердце его отчаянно забилось. Задыхаясь, он стоял в нерешительности, сознавая, что не осмелится перейти улицу. Пошатываясь, он двинулся дальше, ища какое-нибудь кафе на этой стороне улицы. На углу Эшли-Гарденс у самого Вестминстерского собора он почувствовал боль. За последние месяцы у него бывали сердечные спазмы, отдававшиеся стреляющей болью в левой руке. Но эта боль была другой – она охватывала всю грудь с такой силой, что казалось, какие-то огромные тиски дробят ребра. Он даже не мог дышать, к горлу подступила томительная тошнота, на лбу выступил холодный пот. Боль была неимоверной, и все-таки в его сознании бился нелепый детский страх: если он сейчас же где-нибудь не присядет, то свалится прямо на тротуаре, привлекая всеобщее внимание. Еле волоча ноги, он дотащился до входа в собор, вошел внутрь и упал на скамью, судорожно пытаясь вздохнуть.
Наконец мучительный спазм начал ослабевать. Генри несколько раз с трудом неглубоко вдохнул, дотянулся до жилетного кармана, раздавил две ампулы, полученные от Барда, и поднес их к носу. Потом проглотил таблетку. Вскоре дышать стало легче, и минут через двадцать он мог приподняться, сесть и опереться на спинку стоящей впереди скамьи. Он чувствовал себя так, словно его побили камнями, но приступ прошел. Ему казалось чудом, что он еще жив.