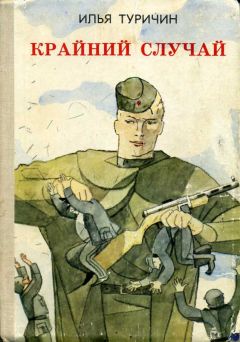Илья Туричин - Сердце солдата
В глазах Петруся появилось неподдельно веселое изумление.
— Неужто самому фюреру?
— Вот те истинный. — Козич перекрестился на образа. — Как паны заживем!
Варвара метнула такой злобный взгляд, что Козич осекся.
— Ты чего, Варька, зеньки вылупила! — крикнул он петушиным голосом. — Иди свиней кормить!
Варвара хлопнула дверью.
— Стерва, — крикнул ей вдогонку Козич, потом спросил Петруся: — На базар пойдешь?
— Неохота. Поспать бы. Вчера господин комендант самолично стаканчик поднес. Голова трещит.
— Ну-ну… Сосни малость. Да на улицу не показывайся. Еще опять кого встретишь! Вместе пойдем.
Козич ушел. Петрусь прилег на лавку. Голова действительно болела невыносимо. Коньяк, который налил ему вечером Штумм, был крепок, отдавал клопами, и сейчас еще Петруся немного мутило от одного воспоминания о нем…
Вскоре вернулась Варвара, загромыхала в сенях ведрами. Петрусь вышел в сени и плотно прикрыл дверь в избу.
— Варвара Петровна, — сказал он тихо.
— Ну? — Варвара отшатнулась.
— Вы тетю Катю знаете?
Варвара молчала.
— Ту самую, к которой Коля молоко возил. — Петрусь тихо засмеялся. — Да вы не молчите…
— Ну, знаю… — ответила Варвара.
— Дойдите до нее. Скажите: «Петрусь просил на среду яиц наварить». Запомните?
— Запомню.
Петрусь открыл дверь, вернулся в хату и снова улегся на лавку. Следом вошла Варвара, остановилась в дверях, долго смотрела на Петруся, будто не видела раньше, и вдруг сказала:
— Может, вам кваску жбанчик подать?
Петрусь улыбнулся:
— А что? Не худо бы. С похмелья.
Дремлющим кажется лес. В безветрии не шелохнется нежно-зеленое кружево берез. Спят недвижные темные размашистые ели. На десятки верст протянулись непроходимые топи. По утрам над ними медленно клубятся сизые туманы. Тихо кругом, до жути тихо. Даже птицы молчат. И белые облака замерли в сонной голубизне неба.
Дремлющим кажется лес. А тысячи видимых и невидимых тропинок пролегли через него в разных направлениях — на Ивацевичи, на Телеханы, на Дрогичин, на Березу. Нет-нет, да и хрустнет сухая ветка, звякнет где-то затвор винтовки, осыплются с ели сухие иглы. Это идут партизанские связные, идут на задания ударные группы. Лес скрадывает звуки, и запахи, и сухие дымки костров. Все прикрывает своей тишиной. Дремлющим кажется лес.
Ванюшка вел Алексея прямо через болото. Сапоги намокли, стали тяжелыми и так стиснули ноги, что Алексей с удовольствием пошел бы босиком. Уж лучше студеная вода болота, чем такая мука. Но снять сапоги нельзя. Босиком далеко не уйдешь — ноги изрежешь, да и сапоги засохнут на солнце, съежатся — надень их потом! Шли, перебираясь с кочки на кочку. Кочки, будто зыбкие живые островки. Ступишь — и ушла под воду, а потом всплывает за спиной и тотчас расправляется чуть примятый сапогом мох: болото прячет следы.
Иногда, чтобы передохнуть, партизаны выбирают кочку поплотнее, где-нибудь возле березки. Встанут на кочку и держатся за ветви тонкого болотного деревца.
По последним данным разведки, в Яблонке нет ни одного вражеского солдата, поэтому Алексей и Ванюша вышли прямо к селу, несмотря на то, что было еще совсем светло. На опушке остановились, внимательно осмотрелись — на всякий случай.
Потом Алексей решительно махнул рукой:
— Пошли.
…Солнце спряталось за лесом, но край неба был еще светел, и Коля издали увидел знакомую фигурку в синем пальтишке и белом платке, энергично шагавшую по дороге прямо к избе Гайшиков.
У Коли екнуло сердце, и тотчас поднялись откуда-то из глубины души мысли о предательстве, ожила обида.
Коля нахмурился, сжал кулаки и ушел в хату. Сестренка, с которой он играл в «ножички» возле крыльца, удивленно посмотрела ему вслед.
— Ты чего набычился? — спросил Василий Демьянович Колю, молча севшего на лавку.
— Ничего, — буркнул Коля. Он смотрел на пальцы отца, держащие острый сапожный ножик и небольшой кленовый брусочек. Пальцы двигались быстро и легко, и прямо на глазах кленовый брусок превращался в ложку. Но Коля ничего не замечал. Он думал о том, что скажет Еленке, когда она войдет. Жестокие и обидные приходили слова.
Дверь тоненько скрипнула, и вошла Еленка в сопровождении Нины. Размотав платок на голове, она тихо сказала:
— Вечер добрый.
— А-а-а, стрекоза, — улыбнулся Василий Демьянович. — Что скажешь хорошего? По делу или в гости? — Он отложил ножик и ложку в сторону.
— По делу.
— Садись.
Еленка села рядом с Василием Демьяновичем, положила руки на колени и взглянула на Колю, сидящего у окна. Тот отвернулся.
— Вы чего? Поссориться уже успели? — удивился Василий Демьянович.
Еленка покраснела.
— У нас гости в избе.
Коля насторожился.
— Не дойдете до нас чаю выпить?
— Чаю?.. — Василий Демьянович встал и потянулся. — Что ж, пройдусь маленько. — Он пошел к двери и снял с гвоздя ватник.
Коля понял, что за гости у Борисевичей, и решил во что бы то ни стало рассказать им о Петрусе!
— Я тоже пойду!
— Тебя не звали… — обрезал отец. — А, как говорится, незваный гость…
— Мне надо!
— Чего?
— Надо… Повидаться с гостями.
— А почем ты знаешь, какие гости у них?
— Знаю…
— Сиди дома, — строго сказал Василий Демьянович, — много знать стал.
— Мне надо, батя! — упрямо повторил Коля. Василий Демьянович нахмурился.
— Если чего надо — я передам…
Коля молчал.
— Ну?
— Пускай она уйдет, — буркнул Коля, кивнув на Еленку.
Та вспыхнула, закусила губу, на глазах появились слезы, и она выбежала в сени, хлопнув дверью.
— Да что у вас стряслось? — сердито спросил Василий Демьянович.
— Петрусь, брат ее, — предатель. Он из леса к немцам ушел. В пивной играет.
— Ну и что?
— Надо предупредить партизан! Ведь он выдаст!
— Вот оно что! — Василий Демьянович положил руку сыну на плечо. — Понятно. Теперь понятно. Ты не беспокойся, сынок, я их предупрежу. Непременно.
Вернулся Василий Демьянович поздно. Но Коля не спал, лежал на постели с открытыми глазами, ждал отца. Василий Демьянович снял ватник, тихонько прошел через избу и сел возле стола.
— Сказал, батя?
— Сказал, сказал… Вот что, Николка, — отец пересел на край постели сына, — завтра пойдешь в Ивацевичи, понесешь молоко.
Коля кивнул.
— Кого б где ни встретил — виду не подавай. С тобой Еленка яйца понесет продавать.
Коля нахмурился.
— И не дуйся. Не твоего ума дело. Пойдете вдвоем, так надо.
Еленка зашла за Колей, едва начал брезжить рассвет. Коля быстро оделся. Сунул бидон в заплечный мешок. И двинулись в путь.
Первые полчаса шли молча, не глядя друг на друга. Мешок с бидоном, показавшийся было легким, стал тяжелеть, лямки даже сквозь ватник врезались в плечи. Правая лямка все время сползала. Коля то и дело приостанавливался и поправлял ее. В одну из таких коротеньких остановок Еленка спросила:
— Тяжело?
— Донесу…
— Давай лямку поправлю.
— Обойдусь.
Еленка пожала плечами.
— Дальше — хуже будет.
Коля и сам понимал, что лямку нужно укоротить. Через несколько минут он остановился. Неуклюже повел плечами, сбрасывая мешок со спины. Сердито сопя, стал перевязывать лямки.
Еленка молча смотрела на него, держа в руке берестяное лукошко с крупными, одно к одному яйцами.
Перевязав лямки, Коля сунул в них руки, пытаясь водворить мешок на место. Рукава ватника задрались. Лямки упорно не хотели лезть на плечи. Коля попыхтел еще с минутку и буркнул:
— Помоги! Не видишь?
— Вижу.
Еленка бережно поставила лукошко на сухой бугорок и помогла надеть мешок. Двинулись дальше.
— Хоть бы спасибо сказал…
— Спасибо.
— На здоровье…
Снова шли молча. Из-за поля в ярко-голубое небо поднялось солнце. Заискрились в молодой изумрудной траве крупные капли росы. Когда вышли на шоссе, Еленка нарушила молчание:
— Придем скоро… Ты на меня не дуйся. Я ж ни при чем! А Петрусь не выдаст. Поиграет в пивной — и только. Может, так надо…
Коля взглянул на Еленку. Лицо ее серьезно, глаза — хмуры. Чем ближе Ивацевичи, тем она больше волнуется. Даже щеки покрылись розовыми пятнами.
— Ой, Коленька, голубчик, только бы лукошко они у меня не отобрали! — вдруг сказала она жалобно.
Коля по-взрослому сдвинул брови:
— Не отберут. Ты только виду не подавай, что боишься. Ты им дай по яйцу. Я им каждый раз молока отливаю. Бывает, прямо в каску.
Когда подошли к немецкому посту, лицо Еленки было спокойно, только чуть побледнели губы да потемнели большие серые глаза.