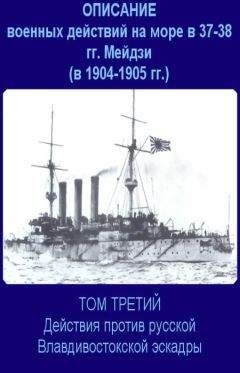Кирилл Левин - Война
— Определюсь я к вам, — весело сказал он. — Вы мне свои, родные ребята. Разве я ополченец, чтобы мне во второочередных частях служить? Я же самый что ни есть кадровый солдат.
— Перестань молоть, сорока, — сказал Черницкий, — расскажи нам, что слышно в России. — Что люди говорят о войне?
— А ничего не говорят, — беззаботно ответил Комаров, — работы у них много, провожали нас, подарков понадавали, а бабоньки, конечно, плакали. Рабочие смирные стали. Раз только погнали нас на один заводик. Военный такой заводик, в заборе он весь, поверх забора колючая проволока, у ворот часовой. Вошли мы с прапорщиком, целый взвод, и повел нас инженер рабочих арестовывать. Машины у них остановленные, работать не хотят, на главной машине красная тряпка болтается. Прапорщик у нас образованный, говорун-человек, он сейчас же к рабочим, речь им говорит: «Стыдно вам, русские вы люди, — ваши храбрые братья проливают за вас кровь, а вы им в спину нож втыкаете за то, мол, что вам мало денег платят». Рабочие, конечно, мнутся, много ли ему скажешь, если за ним взвод с винтовками стоит, но все же выступает от них один, в светлом волосе, глаза серые, не мигают, и отвечает прапорщику: «Мы, господин офицер, за деньгами не гонимся. Никакой нам прибавки не надо, а надо, чтобы нас отсюда отпустили. Не хотим тут работать». Тут ему, конечно, трудно пришлось. Прапорщик ему кричит, что он не русский, если так думает, а немецкий шпион, и приказал всем встать на работу. Поставили мы пост у машин, парня этого забрали и прямым его ходом — в маршевую роту. Вот какой случай был.
Тем временем поднялся весь полк. Не было ни хлеба, ни чая, и солдаты ели сухари, размачивая их в воде. Офицеры завтракали мясными консервами, сыром, пили кофе с коньяком. Полковым офицерским собранием заведывал прапорщик Саврасов, сын крупнейшего в городе, где стоял полк, трактирщика. Саврасов за свой счет покупал продукты, лебезил перед командиром полка, кормил его роскошными обедами и все это делал для того, чтобы не попасть в строй. Толстый, о черненькими опухшими глазками, он мячиком носился по своей столовой-палатке, обслуживал офицеров с таким вкусом и ловкостью, как будто дело происходило в богатом, с лепными украшениями ресторане его отца.
Комаров доложился Саврасову как помощник повара. Бегло оглядев маленького, исщипанного солдата, Саврасов молча взял его за плечо и толкнул из калитки. К солдатам он относился с инстинктивной боязнью — так же, вероятно, боятся в голодное время владельцы богатых ресторанов безработных, бродящих под их окнами.
Вернулся с разведки Рябинин. С тех пор как он вместе с Карцевым принес важные сведения о высадившихся германцах, его часто посылали в разведку, и он охотно и хорошо делал свое дело. Рябинин был весел, покряхтывая, он снял сапоги и рассказывал, что с севера идут немцы — никак не меньше дивизии.
— Аккуратно воюют, — говорил он. — Что мне у них больше всего нравится, ребята, так прямо скажу — снаряжение. Все у них прилажено, как обстругано. Шинель на ранце, ранец плоский, через оба плеча продет, не то что у нас: на каждом шагу тебя мешок по боку хлещет.
Рябинин достал из-за пазухи узенький сверток и положил его на землю. В свертке было сало, неведомым путем добытое им, и, нарезая его тонкими ломтями, он говорил, облизываясь:
— Богатая страна, надо уж попользоваться, все равно отберут или в грязь затопчут.
Офицеры все еще были возле своей палатки, когда тяжелый, низкий гул докатился до полка. Он повторился через минуту, и сотни испуганных людей вскочили с земли. Гул напоминал артиллерийские выстрелы, но был так силен, зловещ, что вызывал у солдат чувство страха и тоски. В нем была неизвестность, страшный сюрприз мудрого, хитрого врага. Казалось, что расшатанные глыбы воздуха падали, как обвалы, земля вздрагивала от ударов. Часто и мелко крестясь, старческой рысью пробежал Блинников. Васильев с обычным своим видом пришел вместе с Бредовым.
— Что, ребята, страшно? — спросил он, оглядывая посеревшие солдатские лица. — Это всего лишь тяжелая германская артиллерия. Бояться тут нечего.
— Пушки, пушки-то какие, — нервно поеживаясь, прошептал Рогожин. — У нас ведь таких нет. Попадет такой снаряд — все разворотит.
Он точно накликал. Высоко в воздухе послышался низкий, быстро растущий рев. Рев приближался, с чудовищной силой пронесся над лесом. Взрыв показался всем ужасным. Короткий вихрь рванул воздух. Потом наступила мертвая тишина. Солдаты в отчаянном ожидании смотрели друг на друга, — ждали нового взрыва. Полк двинулся вперед. Шли по прекрасной лесной дороге. Ели и сосны ровными, вымеренными рядами стояли по сторонам дороги. Боковой дозор привел крестьянина, пожилого человека с красным бритым лицом, с длинными тяжелыми руками, свисавшими до колен. Он с угрюмым спокойствием смотрел на русских. Руткевич по-немецки спросил его, давно ли он стал шпионом. Сердитое удивление выразилось в маленьких тусклых глазах крестьянина.
— Шпион, конечно, шпион! — закричал Руткевич и жестким голосом продолжал допрос: — Что ты делал в лесу? Сколько ты видел — немецких войск? Куда они идут? Много ли у них орудий?
Крестьянин отвечал, что он из ближней деревни. Шел к своей дочери в Фридрихсдорф. О германских войсках ничего не знает.
— Отвечай, немецкая свинья! — взвизгивающим голосом крикнул Руткевич.
Крестьянин отвернулся от него и только качал головой, когда Руткевич спрашивал его. Подъехал Максимов, расслабленно сидевший в седле, с опущенной на грудь головой. Яростно поглядывая на немца, Руткевич доложил, что если бы немца не поймали, он через час сообщил бы своим о передвижении полка. Максимов тупо смотрел в землю, кивнул головой и поехал дальше. Руткевич, оскаливая белые, собачьи зубы, вынул револьвер, за плечо повернул крестьянина и показал ему на лес. Крестьянин побледнел, снял шапку и рванулся за Максимовым. Потом посмотрел в лицо Руткевичу и, понурясь, пошел в лес. Он надел шапку, и видно было, как Руткевич сорвал ее с головы старика и поднял револьвер.
По дороге галопом проскакала артиллерия. На опушке леса орудия снялись с передков, крупных, взмыленных лошадей отвели в лес, и подполковник в очках, наблюдая в бинокль что-то невидное колоннам, громко подал команду. Вдоль опушки полк поспешно развертывался в боевой порядок. Поле расстилалось перед ним, и солдаты видели, как с правой стороны леса выбегали русские цепи. С левой стороны леса к полю выскочил казачий полк. Казаки развернулись лавой и с гиканьем помчались вперед. Их маленькие кони стлались в бешеном намете, всадники, стоя в стременах, пригибались к конским головам, и клинки шашек сверкали, как искрящиеся на солнце водяные фонтанчики.
— Вперед, с богом вперед! — закричал Дорн, скача вдоль фронта на рыжей лошадке. — Теперь-то мы их поймали.
Зажмурясь и пригибая головы, побежали в поле. С германской стороны почти не было огня, там как будто стреляли в другую сторону.
— Во фланг, во фланг берем, — услышал Карцев радостный голос Васильева.
Германская часть, на которую они шли, была повернута к ним боком — германцы отражали атаку с другой стороны, и нападение отсюда было для них неожиданным. Все побежали вперед. Это походило на захватывающую игру. Вокруг себя Карцев чувствовал (чувствовал, а не видел — смотреть кругом нельзя было) возбужденные лица товарищей, они делали то же, что и он, как и он, были охвачены острым желанием скорее броситься, ударить, захватить врасплох, выиграть игру. Выскочил вперед Руткевич, легко размахивая обнаженной саблей, неловко подпрыгивая на длинных тонких, как у жеребенка, ногах. В цепи на секунду показалось сосредоточенное лицо Бредова и дикое, осыпанное крупным потом лицо Машкова. Васильев шел деловито, уверенно. Вид у него был хозяйский, и вдруг странное успокоение почувствовал Карцев. Все делают то, что надо, и он делает то же, сообща идет работа, и сейчас, вот сейчас наступит самый горячий, самый крепкий момент.
Большая суетня шла по всему полю, солдаты размахивали винтовками, трудились свирепо и жарко, вскрикивали, стонали, падали и другие наскакивали откуда-то сзади, точно подсыпали их оттуда щедрой горстью, не жалея, не считая.
«Вперед, вперед», — думал Карцев и смутно видел перед собой напряженные лица, из которых выделилось одно, очень сердитое, по-собачьи тонкое у подбородка, но с синими, чистыми глазами. Лицо это не пропадало несколько секунд, толстые губы смешно топырились на нем, и серая полоска пронеслась в воздухе. Карцев с любопытством увидел, что серая полоска была германским штыком, чуть не проткнувшим его, увидел Рябинина, который прикладом свалил немца, и на какой-то очень маленький срок теплая мыслишка мелькнула у него: «Я не один. Вот как меня защищают… Эх, родные…»
В горячности, в увлечении боем он мало замечал из того, что происходило вокруг него. Только узенькое пространство, на котором он действовал, существовало для него. Чувство счастья охватило его, когда он ощутил у своего локтя локоть Голицына, твердый, дружеский локоть. Порыв, уносивший его, все еще не проходил. Он не хотел отставать от товарищей, рвавшихся вперед. Его привычные солдатские руки лезли в сумку за обоймами. Он не понимал, как с суховатым треском закрывался и открывался затвор, как прочно и удобно входил в плечо приклад, когда он стрелял на вскидку. Вид бегущих немцев заставил его закричать «ура», но он уже не стрелял в них, незаметно для себя переходя к иному, более спокойному настроению. Чаще оглядывался вокруг, замедлял бег. Наступила перемена в бою, Опрокинутые фланговой атакой, немцы бежали, убитые и раненые лежали в поле, в тыл вели пленных, и четверо солдат на плечах, чтобы все видели, тащили германский пулемет. Но чаще доносились выстрелы орудий, шрапнель рвалась над русскими цепями. Цепи, скучившись, топтались на месте, и младшие офицеры, потеряв связь со штабом полка, не знали, продолжать ли наступление. Русская батарея била в лесу, и снаряды визжали, как сверла, режущие металл. Поле было ровное, и только в одном месте оно горбилось холмиком. Десятая рота занимала это место. Карцев лежал на земле возле самого холмика. Он услышал команду и видел, как неохотно и медленно подымались солдаты. Это Васильев решил вывести роту из пункта, который сильно обстреливали. За холмиком хриплый знакомый голос ругался, и Карцев, посмотрев туда, вскочил и побежал. На земле, подогнув под себя ногу и опираясь на локоть, сидел Чухрукидзе. Взвод уже шел вперед, и Машков кричал Чухрукидзе, чтобы тот подымался. Солдат, смотря на взводного, рванулся. Ноги его вытянулись, спина глухо стукнула о землю, руки прижались к бедрам. Он лежал навытяжку, как поваленный манекен, изображающий русского солдата, застывшего по команде «смирно». Лицо его желтело и морщилось болью, но горячечные глаза не отрывались от Машкова. Он видел только его, он был в строю.