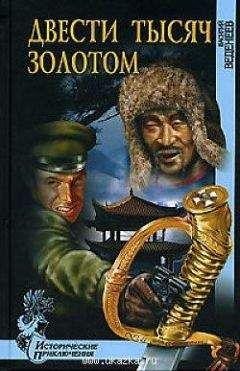Василий Гроссман - Годы войны
Усуров вышел, поглядел и сказал, указывая пальцем: «Вот он где подъем, о котором я говорил, метров четыреста гора, машин двадцать уже засели, и трехосные не осилили, и американские сидят, — как раз для нашей Коломбины…» Он шлепнул ладонью по мокрому борту старой полуторки и вдруг запел с веселым озорным отчаянием: «Ты помнишь наши встречи и вечер голубой…», сел в кабину и запустил мотор.
Историю, рассказанную капитаном, я записал.
IВот уже две недели, как небольшой отряд красноармейцев с боем пробивался по разрушенным войной шахтным поселкам, шел донецкой степью. Дважды немцы окружали его и дважды рвал отряд кольцо окружения, двигался на восток. Но на этот раз прорваться было невозможно. Немцы окружили отряд плотным кольцом пехоты, артиллерии, минометных батарей.
Вопреки логике и разуму, казалось немецкому полковнику, они не хотели сдаваться. Ведь фронт отошел на сто километров, а жалкая горсть советской пехоты, засев в развалинах надшахтного здания, продолжала стрелять. Немцы били по ней день и ночь из пушек и минометов. Подойти близко не было возможности — у красноармейцев имелись пулеметы и противотанковые ружья. Запас боеприпасов у них, очевидно, был очень велик: они не жалели патронов.
Вся история приняла скандальный характер. Армейское начальство прислало раздраженную, насмешливую радиограмму, — не нуждается ли полковник в поддержке корпусной артиллерии и танков. Полковник, оскорбленный, огорченный, вызвал начальника штаба.
— Вы понимаете, — сказал он, — что славы нам не принесет разгром этого жалкого отряда, но каждый лишний час его существования — это позор мне, каждому из вас, всему полку.
С рассветом началась обработка развалин тяжелыми полковыми минами. Пудовые желтопузые мины послушно и точно шли на цель. Казалось, каждый метр земли вспахан, взрыт. Было истрачено полтора боекомплекта, но полковник приказал не прекращать огня. Мало того, он ввел в действие стопятимиллиметровые батареи. Дым и пыль высоко поднялись вверх, в грохоте обрушились высокие стены копра. «Продолжать огонь», — сказал полковник. Камни летели во все стороны, железная арматура рвалась, как гнилые нитки. Бетон рассыпался. Полковник смотрел в бинокль на эту страшную работу.
— Не прекращать огня, — снова повторил он.
— На каждого русского мы, вероятно, выпустили пятьдесят тяжелых мин и тридцать снарядов, — проговорил начальник штаба.
— Не прекращать огня, — упрямо сказал полковник.
Солдаты хотели есть, устали, но им не пришлось ни завтракать, ни обедать.
Только в пять часов дня полковник дал сигнал общей атаки. Немцы рванулись к развалинам с четырех сторон. Все было приготовлено. Атакующие имели на вооружении автоматы, ручные пулеметы, мощные огнеметы, взрывчатку, ручные и противотанковые гранаты, ножи, лопаты. Они приближались к развалинам, гася в грозном крике, в грохоте и лязге страх перед людьми, засевшими в надшахтном здании. Атакующих встретило молчание. Ни одного выстрела. Ни одного шевеления. Первым ворвался разведывательный отряд. «Рус! — кричали солдаты. — Где ты, рус?» Камни и железо молчали. Естественно, первой пришла в голову мысль: русские перебиты все до одного. Офицеры приказали произвести тщательные поиски, вырыть тела, донести об их количестве.
Поиски длились долго, но трупов не было обнаружено. Во многих местах стояли лужи крови, валялись окровавленные бинты, изодранные, запачканные кровью рубахи.
Поиски обнаружили четыре ручных пулемета, исковерканных немецкими снарядами. Консервных банок, пакетов пшенного и горохового концентрата, кусков сухарей найдено не было. В одной яме разведчик обнаружил наполовину съеденную кормовую свеклу. Солдаты исследовали эксплоатационный ствол шахты: отовсюду вели к стволу следы крови. К скобе, вбитой в деревянную обшивку, была привязана веревка. Очевидно, русские спустились по аварийным скобам в шахту и унесли с собой раненых. Трое немецких разведчиков, обвязавшись веревками, держа наготове ручные гранаты, стали спускаться по стволу. Пласт залегал мелко, глубина ствола была не больше семидесяти метров. Едва разведчики достигли шахтного двора, как начали отчаянно дергать веревку. Их вытащили без сознания, в крови, но огнестрельные раны на их телах подтвердили, что русские находятся в шахте. Ясно было, что долго им там не пробыть — найденная наполовину изглоданная свекла свидетельствовала: продовольствия у русских нет.
Полковник сообщил обо всех этих событиях командованию и получил снова от начальника штаба армии исключительно желчную и язвительную телеграмму: генерал поздравлял его с необычайно крупным успехом и выражал надежду, что в ближайшие дни окончательно удастся сломить сопротивление русских. Полковник пришел в отчаяние. Он понимал, что становится смешным.
После этого были приняты следующие меры.
Дважды спускали по стволу бумагу, писанную на русском языке, с предложением сдаться. Полковник обещал сдавшимся сохранить жизнь, раненым помощь. Оба раза на бумаге была карандашная резолюция: «Нет». После этого пришли немецкие химики и забросали ствол дымовыми шашками. Но, очевидно, отсутствие диффузии воздуха помешало дыму распространиться по подземной выработке. Тогда потерявший равновесие полковник велел собрать женщин из шахтерского поселка и объявить им, что если сидящие в шахте красноармейцы не сдадутся, все женщины и дети будут расстреляны. Женщинам было предложено избрать трех делегаток; этих делегаток спустят в шахту, и они обязаны уговорить красноармейцев сдаться ради спасения женщин и детей. Если красноармейцы откажутся сдаваться, ствол шахты будет взорван.
В делегацию вошли: жена крепильщика Нюша Крамаренко, Варвара Зотова, работавшая до войны на углемойке, Марья Игнатьевна Моисеева тридцатисемилетняя женщина, мать пятерых детей; старшей ее девочке исполнилось тринадцать лет. Женщины просили немцев разрешить спуститься с ними в шахту старику-забойщику Козлову, — они боялись, что заблудятся без провожатого, так как после газопуска красноармейцы, вероятно, ушли в дальние выработки. Старик сам вызвался проводить их. Немцы приспособили над стволом ворот и блок, прикрепили к нему «букет» — деревянную бадью, используемую обычно на проходках, и закрепили трос, снятый с подорванной клети.
Делегацию отвели к шахте. Толпа женщин и детей с плачем шла следом. Сами делегатки тоже плакали — они прощались с детьми, со своими родными, с поселком, с белым светом.
Бабы со всех сторон кричали:
— Нюшка, Варька, Игнатьевна! На вас вся надея! Уговорите их, голубчиков, сукиных сынов, постреляют нас, проклятые, пропадем мы и дети наши пропадут, — подушат, как кутенят.
Делегатки плача кричали:
— Да нешто мы сами не знаем, у самих дети! Олечка, иди сюда, дай хоть посмотрю на тебя! Неужто через это душегубство пропадать всем. Да мы их, мужичков бешеных, за волосы силом повытаскиваем, глаза им, дуракам, повынимаем. Они должны сознавать, сколько невинных душ через них пропадет.
Старик Козлов шел впереди, припадая на левую ногу, — ее смяло в 1906 году, во время падения кровли при проходе западного бремсберга. Он шел, мерно размахивая зажженной шахтерской лампой, спешил уйти вперед от кричавших и плачущих баб, — они нарушали торжественное настроение, которое всегда приходило к нему при спуске в шахту. И сейчас, обманывая себя, он представлял, как клеть опустит его в шахту, как влажная сырость коснется лица его, как придет он в забой по тихой продольной, освещая лампочкой темный ручеек, бегущий по уклону, и покрытые жирной пухлой угольной пылью балки крепления. Он снимет в забое шахтерки, сложит их, засечет куток и пойдет рубать мягкий коксующийся уголек. Через час зайдет к нему в забой кум, газовый десятник, и спросит: «Ну, что, рубаешь?» И он утрет пот, улыбнется и скажет: «А что ж с ним делать, рубаю, пока жив. Посидим, что ли, отдохнем». Они сядут у воздушника, поставят лампочки, вентиляционная струя будет мягко обдувать его черное, блестящее от пота тело, и они поговорят, не торопясь, о газовом угольке, о новой продольной, о кумполе, выпавшем на коренной штрек, посмеются над заведующим вентиляцией. Потом кум скажет: «Ну, Козел, с тобой тут всю упряжку просидишь», — посветит лампочкой и пойдет. А он скажет: «Иди, иди, старый», — а сам возьмет обушок и давай по струям рубать, в мягкой черной пыли. Шутка ли, сорок лет при таком деле! Но как ни торопился хромой старик, бабы не отставали от него. Плач и визг стояли в воздухе; вскоре весь народ подошел к скорбным развалинам надшахтного здания. Ни разу Козлов не был здесь с того дня, как бледный, с трясущимися руками пузатый инженер Татаринов, когда-то, молоденьким штейгером, строивший этот копер, самолично подорвал толом надшахтные здания. Это было дня за два до прихода немцев.
Козлов огляделся вокруг и невольно снял шапку. Бабы выли и бесновались, холодный мелкий дождь падал деду на лысину, щекотал кожу. Ему показалось, что бабы воют по скончавшейся шахте, а у него было чувство, словно он снова на кладбище, в осенний день, подходит к открытому гробу проститься со своей старухой. Немцы стояли в пелеринках и в шинелях, переговаривались, покуривали сигарки, поплевывали, словно все это смертоубийственное дело шло само собой. Только один, здоровенный солдат, с совершенно рябым лицом и большими темными мужицкими руками, уныло и хмуро разглядывал развалины шахты. «Вроде сочувствует… Може, тоже подземным был, — подумал старик, — забойщиком или по крепи…» Он первым полез в «букет». Нюшка Крамаренко завыла громко, во весь голос: «Олечка, ангелочек, деточка». Замурзанная с большим животом, раздувшимся от свеклы и сырых кукурузных зерен, трехлетняя девочка хмуро и сердито смотрела на мать, точно осуждала ее за слишком шумное поведение. «Ох, не могу, млеют мои руки, ножки мои млеют!» — кричала Нюшка. Она боялась черного провала, где сидели разъяренные от сражения бойцы. «Всех нас постреляют, нешто они разберут в темноте, — кричала она, — нас там, внизу, вас тут — подавят наверху…» Немцы подсаживали ее в «букет», она отталкивалась от борта ногами. Старик хотел помочь ей, но потерял равновесие и больно ударился скулой об железину. Солдаты засмеялись, и смущенный, злой Козлов рявкнул: «Лезь, дура, в шахту едешь, не в Германию, чего ревешь!»