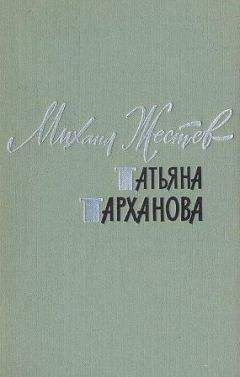Михаил Стельмах - Большая родня
— Чего голосишь? — Призадумался и снова не мог понять, почему поцелуй терпкий и соленый.
Билась Марта головой о его грудь, вздрагивали плечи, как крылья птицы, перекатывала дрожь по спине.
Видел свою мать. Изнуренную работой, с потрескавшимися от трудов и ненастья руками, которые столько переделали работы на своем веку. Угасала красота на лице, разрезалась морщинами, только выразительные карие глаза были по-девичьи молодые, красивые.
— Послушай, Марта, иди домой, собери себе хотя бы перемену одежды, и пойдем к моей матери.
— К твоей матери? Она же прогонит меня без приданного, — еще сильнее задрожала, аж зубы начали клацать.
— Не знаешь ты моей матери, — ответил с гордостью. — А как повезет нам, проживем без богатства. Много того счастья человеку надо? Заработать на хлеб кровно, съесть уверенно и в согласии век прожить — вот и все тебе счастье. Так ли я говорю?
Задумчиво прижал девушку.
Таким грезилось ему это крестьянское счастье, к которому тянулся и дотянутся не мог…
— Какой ты необыкновенный, Дмитрий. Сколько у нас люду переворотилось, а у всех только одно на уме — богатство, деньги, земля, выгода. Один ты такой… самый лучший.
— Тоже мне самого лучшего нашла. Не перехваливай, Марта. Сам знаю узловатый я, не ровный.
— И наилучший. Дмитрий мой, жизнь моя… — И уже не была Марта той бедовой девушкой, которая первой позвала его в темноту весеннего вечера. Первая сказала о своей любви… Прояснившаяся, немного отклонив назад голову, стояла перед ним тихая и чистая, как рассвет. Казалось, ее выразительные глаза распогодились и светили таким сиянием, что Дмитрий не мог отвести от них взгляд, и с радостным удивлением понимал: любовь девушки была более глубокой, чем он думал. Во-первых, не раз в душе шевелилось сомнение: если девушка сама признается в любви — едва ли эта любовь настоящая. И вот сейчас, в эту минуту, это недоверие было навсегда растоплено новым и несказанно радостным пониманием.
— Марта! Дорогая! Иди, собирайся…
— Страшно мне, Дмитрий, — и потемнел взгляд у девушки.
— Страшно тем, у кого совесть нечиста, кто из людей кровь выжимает… А тебе чего? Мы люди простые, не лукавые. — В мыслях уже видел Марту у себя дома, со своей матерью.
— Счастье мое! — обвила руками. — Куда скажешь, туда пойду за тобой. Переночую сегодня еще дома, а завтра к тебе приду. Собраться же надо. Матери скажи. Если не захочет — знать дай.
— Тебе виднее. Только не бери много с собой, чтобы старик глаз не выедал. Не хочу я ничего из его паскудного достатка. Заработаем сами на себя…
— Заработаем, Дмитрий.
Легко шлось домой, в каждом движении чувствовалась молодая сила, надежная, несдержанная.
«Вот и заживем втроем, — прикусил обветренную губу. Была она липкая и соленая. — Это же пот рассолом окропил меня», — понял в конце концов.
XІ
Матери ничего не сказал. Лег на лежанку, подперев ладонями голову, в книжку воткнулся, но прочитать не мог даже слова.
«Чудно в жизни выходит. Не встреться весенним вечером с девушкой — только бы и было того, что знал бы о ней: живет себе у Варчука на хуторе, куда зимой случайно зашел с Варивоном. Хорошая девушка, добрая помощница матери будет. Не отпразднуют они громко единственной на века свадьбы, но тем не менее…»
Видел Марту в своем доме: улыбающуюся, с расплетенными густыми косами на груди, заснула на его руке.
На следующий день едва дождался вечера. Вышел на дорогу, вглядывался в голубые, покрытые лунным сиянием пригорки, в подвижные тени, катившиеся полем, закрывающие ослепительное, щедро рассеянное зерно. Безмолвие настороженным псом улеглось возле остуженных домов, мигая желтыми огоньками. Далеко проскрипели сани. Липа бросила серебряной изморозью и снова молча передумывала стариковские печали.
Не вышла Марта ни в первый, ни во второй, ни в третий вечер. И Дмитрий аж почернел за эти дни.
Над селом разгулялась метелица. С большака срывался перепуганными табунами коней пронзительный ветер, влетал в узкие улочки и выше домов поднимал мерзлую порошу навстречу роям мелких мотыльков.
«Хорошая погодка, только ведьмам на Лысую гору ездить». Начал надевать полушубок.
— Куда собрался, Дмитрий? — оторвалась от печи мать.
— Заскочу к Варивону, — озабоченно посмотрел в покрытое чешуей окно и вышел из дома.
— Го-го-го! — обрадовался ветер и обдал его с двух сторон мелкой пылью. «Чего ржешь, дурак!» Вышел на дорогу.
Идти было тяжело, временами проваливался в сыпучий снег, но непогода порождала еще большее упрямство. На поле ветер совсем одичал. Налетал спутанным клубком, забивал дух.
«Врешь — не одолеешь!»
Боком пригибался и упрямо шел вперед. Слышал, как соленый пот щипал спину, а в лицо, особенно в подбородок, впивались пронзительные жгучие иглы. В конце концов хутор, колеблясь, неясно выплыл из метели. В окне Мартиной комнатушки покачивается тусклый отблеск — видно, притушила свет. Залаяли на дворе собаки, почувствовав шаги человека. Потом будто что-то скрипнуло; у самого уха промчала пьяная вьюга. Стоял у плетня. Беспокоилось сердце, сжималось на холоде разогретое в дороге тело.
Перескочил через плетень, увязая по пояс в снегу. Слышал, как сыпучий холод посыпался в голенище и начал таять на стельке под тонкой портянкой.
Повеяв тенью, потух огонек в комнате Марты. Дмитрий прислонился к стенке, пальцем тихо ударил в оконное стекло; сзади послышался сухой треск, будто дерево стрельнуло. Оглянулся, не отпуская пальца от холодного стекла.
Черными клубками, сгибаясь, на него катились четыре фигуры. Над узким воротничком кожуха волосатым колесом плыла голова Лариона Денисенко, за ним разогнулся длинный, с палкой в руках Лифер Созоненко. Пригнувшись, опередил отца бойкий Карп.
«Его больше всех остерегаться надо».
— Черт твоей матери! — растянулся на снегу Сафрон, и Дмитрий мимо него отскочил к плетню. Выгибаясь, треснула верея, удобно перехватил ее обеими руками.
«Держись, женишок!» — отскочил от Лариона и обрушил толстый конец на голову Лифера. Тот пошатнулся и, не выпуская из рук палки, приседая, опустился на землю. И еще раз, ахнув, потянул по плечам, аж скрутился долговязый и кровью рыгнул на снег. Налетели Ларион с Сафроном, и две палки одновременно ударили по третьей. Скорее телом, чем умом, ощутил, что сзади крадется Карп. Отскочил к плетню, и тотчас мягко, по-кошачьи мимо него прыгнул молодой Варчук с занесенным шкворнем над головой.
«Сразу голову раскроил бы надвое», — и лупанул ломакой по спине.
Карп легко через голову перевернулся на снегу и сразу же вскочил на ноги, обходя его.
— Карп, по ногам бей бугаяку! Его иначе не свалишь! — ударил в лицо ветер.
— Я тебя ударю! — налетел на Сафрона и Лариона. Отскочил старый Варчук к стене, еще раз свистнула над ним верея и разломилась пополам. Дмитрий хотел перепрыгнуть через растянувшееся тело, и вдруг весь дом с гулом обвалился ему на голову, горячие красные, желтые мотыльки сыпанули в лицо, и кто-то затанцевал на его спине. Потом покачивалась земля — а качалась, как колыбель — сюда-туда, сюда-туда, хрипели злые и тревожные голоса…
Долго не мог встать. Разрывалась голова; обмерзшие пряди волос холодно зазвенели на лбу.
«Где же я?» Свистит пурга, засыпают снега, сковывает мороз. В конце концов встал и со стоном упал назад — закоченелые ноги не слушали его.
«Где же я?»
Наискось нависло над ним старое дерево, зажатое высокими стогами.
«Подожди, да это же хутор Варчуков».
Снова хотел встать, но ноги были как бревна.
«Врете, гады! Если не убили, то не умру просто так».
Боком пополз по снегу, глубоко вспахивая собой сыпучее поле. Задыхался. Снег забивал ноздри, рот, засыпал шею; костенели руки — грел их подмышками и снова полз. Провалился в ров, извиваясь, обрывая ногти, выбирался из него, уже не чувствуя пальцев.
Вырвался из холодного плена и снова полз.
«Врете — не одолеете!»
Конями вылетают ветры, воют, ревут, засыпают снегами.
Не вырвешься из их плена, и занесут заносы, только весной, обгрызенного зверьми (не найдет зверь, мыши обгрызут), отыщет тебя хлебороб по кускам одежды догадается, чье тело нашло приют на его поле…
«Врете — жизнь меня ждет, мать выглядывает. И я приползу к ней».
Снежной насыпью поднялась дорога, доползти до нее, а там и домой недалеко. Отдохнуть немного, дух перевести…
Как тепло становится, брызнуло солнце на черные поля… Какой там черт брызнул! Это мороз его заковывает. Головой в снег, локтем в снег, обе руки под себя, и боком, боком на дорогу, потому что его мать дома выглядывает, Марта надеется на него, ему жить, работать надо… Проклятущие ноги! Кровь течет с нёба.