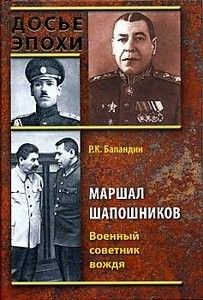Станислав Гагарин - Мясной Бор
Вздохнул Кузнецов, собрал оттиски гранок и оригиналы в полевую сумку, а сам стал помогать швырять в болото детали печатных машин, шрифты из наборных касс. Потом подрывали безотказные полуторки, на которых почти шесть месяцев кочевала редакция по зимним, а потом и по весенне-летним фронтовым дорогам.
Так прекратила существование газета «Отвага». Остались только люди, три десятка журналистов и типографских рабочих. Маленький отряд гражданских по сути людей, одетых в военную форму.
И пришла ночь на 25 июня… В Долине Смерти сотворялось массовое убийство. Узкий проход вдоль узкоколейки и настила был окаймлен огневыми точками врага, из них кинжальными очередями били пулеметы, сметая тех, кто пробирался к Мясному Бору.
Едва редакционный отряд вошел в коридор, его тут же разбросало в стороны, и отныне каждый из газетчиков умирал в одиночку.
…Когда-то Перльмуттер любил раскрывать Ветхий Завет на случайной странице, вчитываясь в его текст, неторопливо обдумывать его.
Сейчас, когда он лежал, раненный, в заполнявшейся водой снарядной воронке, уткнувшись в разрытую землю и задыхаясь от острого чесночного запаха немецкой взрывчатки, Перльмуттер мысленно увидел страницу из Первой Книги Царств и прочитал угрожающие слова Яхве: «…Если отвратитесь вы и ваши сыновья от меня, и не будете блюсти мои заповеди, мои законы, которые я дал вам, и пойдете, будете служить другим богам и поклоняться им, то я истреблю Израиль с лица земли, которую я дал вам, и этот дом, который я освятил моему имени, я отброшу от моего лица, и будет Израиль притчей и насмешищем у всех народов».
Лазарь Перльмуттер, военный корреспондент газеты «Отвага», известный в мирное время специалист по творчеству Лермонтова, нашел в себе силы иронически усмехнуться. «Гитлер не верит в бога Яхве, но убивает потомков детей Израилевых», — подумал он. Взрыв мины, упавшей на кромку воронки, отбросил Перльмуттера на самое дно, и Лазарь умер.
61
…Женя Желтова выбилась из сил, упала на землю и обреченно зарыдала. Валентина Старченко потрясла ее за плечо.
— Надо идти, Женя, надо идти, — монотонно повторяла она, но девушка не поднималась.
Рядом с ними возникла мужская фигура, на рукаве гимнастерки Старченко заметила звезду, подняла глаза. Это был незнакомый комиссар.
— Ваша подруга ранена в ногу, — сказал он. — Давайте перевяжем ее. У меня остался пакет с бинтом…
«Запасливый какой, — удивилась Валентина. — Индивидуальный пакет сохранил…»
Зафурыкали над головами мины, комиссар и Старченко упали, накрыв собою Желтову. Завизжали осколки.
Валя поднялась, а комиссар не шевелился, так и лежал, придавив крупным телом Женю. Старченко с трудом отвалила его и увидела, что висок комиссара пробит осколком. Пакет с бинтом он держал в левой руке.
…Румянцев шел вместе с капитаном Смирновым из зенитного дивизиона. Их группа взяла правее, и это было до известной степени верное решение: справа от узкоколейки пройти было легче. Но капитан потерял ориентировку и слишком отклонился к южному фасу немецкой обороны, напоролся на огневые точки противника. Смирнов скомандовал: «Ложись! Огонь!» Гитлеровцы застрочили в ответ из автоматов. «Забирайте влево! Влево!» — надрывался капитан. Он оглянулся и увидел редактора газеты, который, смешно прицеливаясь через очки, стрелял из пистолета.
Отбиваясь, они в поредевшем составе выбрались к дороге.
— А где батальонный комиссар? — спросил Смирнов у старшины Щекина, не отстававшего от него ни на шаг.
— Там остался, — ответил Щекин. — Срезали комиссара, бандюги…
«…Furor teutonicus — отрешенно усмехнувшись, подумал Борис Бархаш, когда возникла перед ним огненная стена разрывов. — Их тевтонской ярости я должен противопоставить нечто… Что именно? Русский воинственный дух! Правда, в жилах моих нет славянской крови… Но разве кровь, а не язык определяют характер личности?! Я же всегда мыслю на русском, и потому мне не страшен этот огонь впереди…»
Он понимал, что, размышляя на подобную тему, загоняет вовнутрь естественный страх перед тем, что творилось сейчас в Долине Смерти. Надо было идти туда, несмотря ни на что. И Борис Бархаш, растерявший в сумятице боя своих редакционных товарищей, шел на восток в толпе незнакомых ему красноармейцев и командиров.
Философ не знал, что справа от него прошли основной заградительный огонь два ярых спорщика и неразлучных друга, старики-добровольцы из народного ополчения, Левин и Раппопорт. Едва попав в адов коридор, они взялись за руки и шли непрестанно вперед, спотыкаясь и падая, снова поднимались и, поддерживая друг друга, пробирались к Мясному Бору. Уже погибли Валя Старченко и Женя Желтова, Ермакович и Разумиенко, Кочетков и Лычагин, а Борис Бархаш был все еще жив. Сейчас он думал о том, как после прорыва соберутся они вместе и пойдут рассказы о том, как им удалось уцелеть… Думал о тех, кто был теперь мертв, как о живых, и до тех пор, пока они сохранялись в его памяти, эти люди и в самом деле продолжали существовать.
«Fuimus, — сказал себе Бархаш. — Мы были…»
И вдруг существо его пронизало предчувствие приближающейся собственной гибели. «Меня сейчас убьют», — спокойно подумал философ и поднялся во весь рост перед завалом из бревен разрушенной снарядами настильной дороги. Ему не хотелось принимать смерть безропотно, как бы согласившись с неизбежным концом. И Бархаш сдвинулся влево, чтобы обойти завал. Если его убьют, то пусть это случится в атаке, но ведь их нынешний прорыв — отнюдь не бегство из ловушки, а удар по врагу.
«Увидеть бы его лицо», — пожелал Бархаш и почувствовал, как поднимается в нем та русская одержимость — о ней он только читал или слышал от фронтовиков, — которая бросает людей на амбразуры. За горло руками, загрызть насмерть!
Миновав завал, Борис увидел немецкую огневую точку. Из нее методично бил пулемет, перекрывая дорогу. «Гранату бы!» — с тоскою подумал философ и бросился на пулемет, вскинув пистолет, в котором не было ни одной пули.
Очередь срезала его за полсотни шагов от пулемета.
Борис Бархаш лежал на спине и смотрел в небо, закрытое багровым дымом. Он жалел, что так и не успел приступить к давно задуманной книге о презумпции естественности в объяснении явлений космического характера. «Естественна ли моя нынешняя смерть? Как соотнести ее с теорией взаимной обусловленности явлений?» — подумал философ, и некоторое время он жил с этой мыслью.
Затем дух его отлетел.
62
Его не удивила пустынность венских улиц, которыми он проходил, неторопливо, цепко, художнически примериваясь к выдающимся шедеврам архитектуры, стараясь выделить те, к которым пока еще не обращался при исполнении заказов. Третьего дня мебельщик Блувбанд, брезгливо перебрав стопку гравюр, изготовленных Адольфом, поморщился и заметил, что херр Хитлер — первую букву его фамилии Блувбанд произносил подчеркнуто мягко — повторяет в картинках одно и то же — необходимо разнообразить сюжеты… Адольф хотел возразить: ведь его работ никто не видит. Блувбанд, как и другие мебельщики Вены, по тогдашней моде наклеивает его, Адольфа Гитлера, творения на ту часть шкафов, которой их поворачивают к стене. И что большего унижения для художника придумать невозможно… Вслух Гитлер не сказал ни слова. Только засопел чуть заметнее, но тут же подавил эту рефлекторную привычку, она предшествовала срыву в невротическую истерию, а перед Блувбандом давать выход магнетической энергии бессмысленно. Бог мебельщика, равно как и прочих детей Израилевых, — деньги.
Была середина дня, и пустынность Рингштрассе, площади Святого Стефана странно не удивляла художника. Безлюдным оказался и Бургплац, сиятельные конники которого показались Гитлеру неуместно большими. Он подумал, что следует включить в число новых гравюр мавзолей эрцгерцогини Христины, творение Кановы, и очутился вдруг перед церковью капуцинов, где находился склеп, в нем хоронили императоров, начиная с Матвея. Его и увидел Гитлер в небольшой группе людей, наряженных в царственные одежды. Они стояли друг за другом у входа, образуя смиренную очередь.
— Нам не сюда, молодой человек, — сказал Гитлеру крайний, и Адольф понял, что перед ним император Матвей. — Судя по всему, вы из последних отпрысков, а порядок такой: регистрация мертвецов начинается с недавно умерших.
— Но я еще живой! — воскликнул Гитлер.
— Вы так считаете? — сощурился монарх, — Нет, коль вы с нами, то живым не можете быть.
— Но кто это все придумал? — спросил Адольф.
— Новый император Германии. Ему почему-то нравится, чтобы его называли вождем. Вы из какой ветви Габсбургов?
— Не из какой, — буркнул Гитлер.
— Значит, вы Гогенцоллерн? — осведомился император Матвей. — Кто именно?