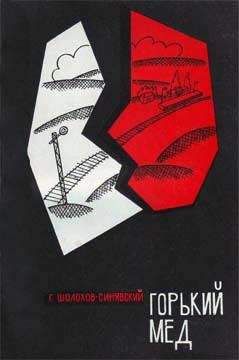Георгий Шолохов-Синявский - Волгины
— Придется тебе, Тамара, тащить его на медпункт, — сказала Таня.
— А почему не тебе? — спросила Тамара.
— Я должна идти на передний край, к бронебойщикам.
— И я должна…
Таня гневно покраснела.
— Я приказываю.
Тамара изумленно, будто не узнавая, смотрела на подругу.
— Знаешь что? — Она упрямо сдвинула брови. — А мне велено послать тебя на пункт с первым же раненым. Нина Петровна велела.
Таня вспыхнула, сухо скомандовала:
— Старший сержант Старикова, выполняйте приказание! Отнести раненого на пункт и доложить лейтенанту Метелиной, что я такого приказания, чтобы вернуться, от нее не получала… Ясно?
Тамара теперь смотрела на подругу глазами, полными слез. Тане показалось, что слезы вот-вот хлынут по ее толстым запыленным щекам…
— Ну, Тамарочка, ну, милая… — торопливо кинулась Таня к подруге и обняла ее. — Ну, неси же… А? Какая же ты вредная…
Тамара шмыгнула носом.
— Ладно. Понесу…
Девушки ловко расстелили плащпалатку, положили на нее раненого. Схватив за связанные шнурки, Тамара буркнула: «Бывайте здоровы» и волоком потащила раненого вниз по лощине.
21Оставшись одна, Таня снова поползла вперед. Изредка она поднимала голову, чтобы взглянуть, далеко ли еще до траншей. Ей казалось, что воздух горит и трещит над ней… Пыль и дым плыли ей навстречу, выедая глаза.
Таня выползла на бугорок, чуть приподняла голову и замерла от изумления. Перед ней горели десятки громадных костров. Пылающие стальные коробки смешались с движущимися то вперед, то назад танками и самоходными орудиями.
Перед ними из глубоких длинных ям выскакивал огонь. Отовсюду гремел гром, и желтоватые молнии с воем сновали по вытоптанной и обугленной земле. А над всем этим матово светило солнце, и все было таким, как во сне — нереальным и зыбким…
Таня видела близко бои и под Харьковом и под Сталинградом, но такого еще не наблюдала… Она склонила голову, но тут же подняла ее. «Вперед, вперед — там ждут раненые!» — подумала Таня и рванулась вперед.
Сквозь стелющуюся по дну лощины пыль она увидела медленно, рывками ползущего человека. Он словно плыл, делая слабые загребающие движения левой рукой, то поднимая голову, то вновь бессильно опуская ее. Тело его то сокращалось, то вновь вытягивалось и замирало на несколько секунд в неподвижности.
Тане даже показалось, что она слышит его прерывистое дыхание. Весь правый бок и левая рука раненого были черны от крови. Темный след оставался позади на примятой траве.
В первую минуту Таня смогла только заметить, что раненый — командир; ремни портупеи и пистолета перекрещивали его узкую спину.
Раненый сделал совсем слабое движение рукой, вцепился в куст полынка и, уронив голову, остался недвижимым.
В эту минуту пыльное облако от разорвавшейся мины накрыло устье лощины. Потребовалось не менее полминуты, чтобы пыль улеглась.
Чихая и отплевываясь, Таня вскочила и побежала к раненому. Теперь она ни о чем не думала, забыв о том, что каждую секунду новая мина может разорвать ее в клочки.
Подбежав к лежавшему вниз лицом офицеру, она опустилась на колени, привычным осторожным движением подняла его голову… И в то же мгновение, еще не видя лица раненого, она узнала его, узнала узкий, по-ребячьи, затылок, пушистый, как у ребенка, светлый завиток…
Таня невольно вскрикнула; на ее руках покоилась голова Саши Мелентьева…
Сначала Таня как бы окаменела: казалось, что все это снится ей. Она закрыла глаза и вновь их открыла, надеясь, что вместо Саши окажется какой-нибудь другой раненый. Но, с трудом приподняв тяжелые горящие веки, она увидела тот же светлый завиток и, уронив голову на неподвижное плечо Саши, содрогаясь всем телом, зарыдала. Она то легонько тормошила его, то приподнимала пальцами его синеватые веки, взывая: «Саша, Саша! Товарищ старший лейтенант!» Но Мелентьев был в глубоком обмороке и не шевелился.
«Ну вот… Ты хотела спасти его, пожертвовать для него жизнью, вот и спаси, пожертвуй», — как бы издеваясь над собой, подумала Таня.
Мысль о каком-то особенно красивом героизме, о самопожертвовании почему-то казалась ей теперь суетной и ребяческой. Тане вдруг стало стыдно за свое тщеславие. Задача перед ней стояла более обыкновенная и трудная — доставить раненого старшего лейтенанта Мелентьева на перевязочный пункт. Сделать это было нелегко: огонь усиливался… Но прежде следовало осмотреть рану, сделать перевязку…
Рана была ужасной. Осколок вырвал у Саши часть бедра, другой — засел между ребер; как Саша еще мог ползти в таком состоянии?.. Сердце его билось слабо, рывками, то затихая, то будто подпрыгивая…
Наложенный Таней на зияющую рану бинт сразу стал красным…
Повидимому, Мелентьев был ранен не на КП, — в этом случае ему бы сделали перевязку. Он шел, наверное, в роту или возвращался в штаб батальона, и в это время мина настигла его.
Таня заторопилась… Изнемогая, она положила бесчувственного Сашу на плащпалатку, потащила. Это был испытанный способ, с ним справлялись даже не особенно сильные девушки.
Носилки требовали двух человек; под пулями и снарядами нести их не всегда было возможно, а плащпалатка, связанная на углах крепкими шнурками, хотя и не представляла удобств, все же оставалась самым доступным средством для переноски раненых под минометным огнем, на виду у противника.
Задыхаясь и изредка переводя дыхание, Таня тащила тяжелую, дорогую для нее ношу. Иногда мины рвались рядом, и тогда она закрывала собой Сашу. Что бы не отдала она, только бы притащить его на медпункт живым! Она впервые сознавала, что не все зависит от ее мужества и храбрости и что война уже собиралась навсегда отнять у нее любимого человека…
Таня ползла по лощине с выкорчеванным наполовину кустарником. Из недалекого овражка повеяло свежим ветерком. Таня подтащила плащпалатку с Сашей под куст орешника, отбрасывающего жидкую тень. Она совсем выбилась из сил…
Саша все еще не приходил в себя. Он лежал, вытянув вдоль плащпалатки ноги в запыленных сапогах, запрокинув голову. Глаза его были закрыты, губы стиснуты, как будто и в обмороке он сдерживал мучительную боль.
Вдруг Саша пошевелился, медленно открыл веки… Под ними тускло забрезжил живой слабый огонек…
— Товарищ старший лейтенант, не шевелитесь, — наклоняясь над Мелентьевым, обрадованно попросила Таня.
Она достала фляжку, смочила спиртом Сашины губы. Он шире открыл глаза, с изумлением смотрел на нее.
— Это вы? Вы здесь? — с тревогой спросил Мелентьев.
Таня полными слез глазами смотрела на него.
— Лежите, лежите, — тихо ответила она. — Я вас вынесу. Все равно вынесу. Саша, дорогой мой!
Она не выдержала и вновь заплакала.
— Ну-ну… Не надо, — едва слышно сказал Саша, хотел приподняться и, глухо застонав, снова опустился на плащпалатку. Его рука слабо сжимала руку Тани.
С минуту он лежал с закрытыми глазами, потом опять открыл их.
— Кажется, там все в порядке, — с усилием разжимая серые губы, проговорил он. — Все атаки… отбиты… А вы… извините. Пришлось вам возиться… со мной…
— Молчите, — сказала Таня, продолжая всхлипывать. — Вам нельзя разговаривать.
— Хорошо. Я не буду, — бледные губы Мелентьева по-детски дрогнули, веки вновь сомкнулись.
Таня стянула шнурки плащпалатки, снова впряглась в них и с еще большим упорством, изнывая от жары и жажды, потащила раненого в кусты, вниз по лощине.
Когда она доставила Сашу на медицинский пункт, уже вечерело и бой затихал. Санитары торопливо носили раненых к стоящей на дне овражка повозке, на которой их должны были доставить в санроту, а оттуда в медсанбат.
Нина Метелина и Таня деловито меняли на ране Мелентьева бинты. Таня молчала, стиснув зубы. Она еле держалась на ногах. Лицо Нины было печальным; рана Мелентьева была очень тяжелой и, как она сама сказала, ей не нравилась.
Саша все еще не приходил в сознание. Пульс его слабел…
«Спаси… Пожертвуй…» — вертелась в мозгу Тани все та же насмешливая, пугающая мысль.
И вдруг в ушах ее, преодолевая звон, какой рождается всегда утомленным слухом после оглушительного шума, тихо зазвучал мягкий, певучий голос Саши, читающего стихи Некрасова:
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя…
…Санитары подняли Сашу, понесли к двуколке. Он так и не очнулся, и Таня не смогла попрощаться с ним.
Когда его увезли, она отошла за куст орешника и, давясь слезами, теперь уже не сдерживаясь, дала волю своим горестным чувствам.
22Немцы прекратили атаки задолго до темноты, не продвинувшись на главном, Ольховатском, направлении более четырех — шести километров, и остановились у второго рубежа советской обороны. На вспомогательных участках враг совсем не имел успеха. Командующий 9-й немецкой армией, пожилой, с лысеющей макушкой генерал, получая от командиров четырех танковых корпусов и восьми отборных пехотных и моторизованных дивизий неутешительные донесения, уже в половине дня с раздражением говорил своему начальнику штаба: