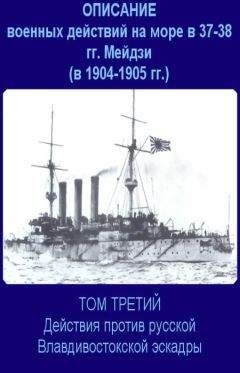Кирилл Левин - Война
Безрукий говорил, не глядя ни на поле, ни на нас. Он машинально повторял объяснения, которые давал приезжим в течение двадцати лет и в которых он никогда больше не сможет изменить ни одного слова. Он описал сентябрьские бои 1914 года, французское наступление 16 апреля 1917 года, майские и октябрьские бои 1918 года.
Пустыня, которая лежала перед нами, заваленная смертью, была наша. Мы не слушали его, а он говорил долго, с назойливой монотонностью гида.
Наконец он кончил и спустился со своего бугорка. Он подошел к нам.
— Эх, господа, — сказал он, раскуривая трубку. — Годы расцвета уже прошли для нас. Туристы стали гораздо реже приезжать на поля сражений. Это уже далеко не то, что было в первое время. Хоть снова возьмись за математику.
Он говорил теперь другим, простым тоном, даже более простым, теплым и человечным, чем обыкновенно. Так говорят иногда за кулисами актеры, снимая с себя грим и парики.
Внезапно встрепенулся Мариус:
— Я не закончил вам про мсье Шапрона. С тех пор, как нет Рипона, он все ходит туда, смотрит-смотрит на свой участок, где был дом его, конюшня и поле. Потом он пробирается туда, где было кладбище. У него там сын лежал, мой сверстник, — он умер молодым. И вот он приходит на кладбище и плачет. Я так думаю, что он, быть может, и не над тем местом плачет, потому что кто его теперь знает, где было кладбище, если Рипона нет? Это мое мнение! А тем более старику семьдесят пять лет! Что он может помнить? Их четверо, таких чудаков. Они все из Рипона: мсье Шапрон — мэр, и мсье Каньо, мсье Леру, мсье Рав. Мсье Шапрон — мэр, а все остальные муниципальные советники. Каждые четыре года они приходят на пустырь и устраивают выборы. Они переизбирают мэра, помощника и двух советников. После выборов они уходят в поле и плачут. Потом они возвращаются в Сюипп и напиваются.
Безрукий смотрел на Мариуса укоризненными глазами: шофер держал себя слишком развязно со своими седоками, он говорил слишком много и слишком громко.
А Мариус расхохотался:
— Вы знаете, что недавно устроили в Рипоне? Господа, я вам расскажу, что устроили в Рипоне, и вам станет смешно: артиллерийский полигон! Пригнали солдат и снова стреляют по старым местам. Прямо вовсю! Они стреляют по теням, господа, потому что Рипона, собственно говоря, нет.
Безрукий повернулся к нему спиной.
— К нам надо приезжать почаще, господа, — сказал он. — На эти места надо спешить смотреть: они доживают последние мирные годы. Скоро они потеряют характер мертвой достопримечательности. Будет война, они снова оживут.
3. 11 ноября
В Компьенском лесу, у Ретонд, где в 1918 году стоял штабной поезд маршала Фоша, поперек рельс лежит большая черная плита с надписью: «На этом месте свободные народы разбили германскую гордыню».
Старые дубы грустно склонили листву над плитой. Чугунные цепи преграждают доступ к длинной просеке. В глубине ее стоит строение, похожее и на обыкновенный железнодорожный сарай и на усыпальницу. Там сохраняется вагон-салон маршала Фоша, в котором 11 ноября 1918 года было заключено перемирие.
Статуя маршала меланхолически смотрит на этот вагон с противоположной стороны полянки.
11 ноября 1918 года в одиннадцать часов утра горнист при ставке верховного командующего союзными армиями, сержант Селье, вышел на небольшую песчаную площадку перед вагоном, в котором помещалась главная квартира, и протрубил: «прекратить огонь».
В тот же день между восемью и десятью часами утра все начальники воинских частей и подразделений были предупреждены по телеграфу о том, что германская сторона приняла условия перемирия и что военные действия следует прекратить в одиннадцать часов.
В одиннадцать часов все горнисты трубили «прекратить огонь», и военные действия действительно прекратились.
В своих «Воспоминаниях о войне» Эрцбергер, который был главой германской делегации по переговорам с маршалом Фошем, описывает французского солдата, который с сумасшедшим видом бежал к помещению своего командира и, потрясая в воздухе бумажкой, кричал: «Готово! Подписано! В одиннадцать часов конец!» На бумажке был приказ маршала Фоша: «Военные действия прекратить по всей линии фронта в одиннадцать часов» и приказ по дивизии: «В одиннадцать часов рядовым привязать белые платки к винтовкам и кричать хором изо всех сил: «Да здравствует Франция» и петь «Марсельезу».
В одиннадцать часов трубачи выскочили из траншей на поверхность, еще рискуя жизнью. Трубы звучали неуверенно. Но все же прозвучало «прекратить огонь». Тягучие звуки уплыли в даль, их подхватывало эхо. Тотчас заиграли немецкие трубачи. Затем был подан сигнал «подниматься». Все поднялись, вышли из окопов и встали во весь рост лицом к неприятелю. Раздалась команда «смирно» и еще через мгновение другая, более громкая-«к знамени». Солдаты запели «Марсельезу» и плакали навзрыд, и вой их рыданий смешался с пением. Прусские гвардейцы тоже пели «Марсельезу» и, вскидывая в воздух каски, кричали: «Гох, гох, републик!»
Клемансо сначала хотел придержать известие втайне до момента обсуждения его в парламенте.
Но в одиннадцать часов ударила пушка, и всю страну охватило радостное безумие. Пуанкаре и Клемансо ненавидели друг друга, но на радостях и они расцеловались.
Красочно описывает этот день Леон Доде.
«Перемирие было вершиной достижений Клемансо. Его имя было у всех на устах. 11 ноября я был в Палате депутатов, когда он читал текст перемирия. Он читал твердым голосом. Вдалеке гремели пушечные салюты. «Отец победы» стоял бледный. Листки мести дрожали в его руке, затянутой, как всегда, в серую перчатку. Кончив чтение, он, дрожа, сошел с трибуны и сел на министерскую скамью. Все взгляды устремились на него. Тогда все увидели, как Бриан с растрепанными волосами, с блуждающими глазами, стал своей походкой краба пробираться к тому, кто в течение всей его жизни был предметом его зависти и ненависти. Он протянул триумфатору свои маленькие пальцы, грязные, как у поденщицы. Но Клемансо заметил его издали и резко заложил руки за спину».
В тылу началась возня между руководителями бойни, которых называли «отцами отечества и победы», но фронту предстояло еще много тревог.
Было заключено всего лишь перемирие. Еще были впереди крупные военные перегруппировки, Кастельио еще организовал армию, которая должна была отрезать немцам отступление в случае, если они нарушат условия. Еще много было забот. До того дня, когда был, наконец, подписан мир, еще должно было пройти восемь с половиной месяцев. Но военные действия прекратились, и тишина внезапно обрушилась на несчастную страну, которая четыре с половиной года сотрясалась от пушечной пальбы.
Франция сделала из этого дня государственный праздник. Он ежегодно отмечается парадом и пышными церемониями.
Вечером накануне этого дня я проходил в Париже по Елисейским полям. Проспект был подобен могучей реке. Она катила полные воды и играла золотом и никелем. Триумфальная арка издали была похожа на величественный алтарь. С площади Согласия ее очертания были видны недостаточно ясно, и я поплыл дальше по течению.
Громадные трехцветные флаги были натянуты на мачты, похожие на копья исполинов, приготовившихся к битве. Они трепетали. В пламени прожекторов пылали их красные полосы, в тревожной бледности колыхались полосы белые, синие сливались с темнотой ночи.
Я подошел к самой арке. Над могилой Неизвестного колыхался призрачный огонек. Он был почти незаметен.
Утром 11 ноября я снова пришел сюда. Флаги расцвели, как цветы, распустившиеся за ночь. Холодный ветер раздувал их, как паруса. Было еще рано. Женщины, спешившие в метро, делали крюк, чтобы пройти под аркой. Здесь они торопливо опускали на землю кошелки и сетки, складывали на груди руки, беззвучно шептали молитвы и, уходя, торопливо осеняли себя крестным знамением.
Двенадцать постаментов, окрашенных в светлую краску, стояли на круглой площадке вокруг арки. На каждом было написано одно из тех имен, которые тревожат воспоминания каждого француза: Марна и Шампань, Уаза и Эна, Сомма, Артуа, Изер, Фландрия, Верден, Аргонны, Эльзас и Лотарингия. Италия, Восток, Моря и Колонии.
Сейчас придут делегации бывших комбатантов. В небольшие выемки перед этими постаментами уложат они по нескольку пригоршней земли, привезенной с полей боев, о которых эти постаменты напоминают.
Комбатанты пришли, построившись по-военному. Многие надели старые мундиры и шинели, продырявленные в битвах, изорванные о проволочные заграждения, слежавшиеся в грязи траншей и в крови санитарных носилок. На улицах Парижа снова появилось страшное видение военных лет.
Пришел кортеж инвалидов — безногих, безруких, с поломанными спинами. Одни плелись на костылях, другие сидели в креслах, полулежали или лежали в колясках. Одни правили сами, других подталкивали жены, дети или друзья. За безногими следовали слепцы с белыми палочками; за слепцами — глухие с аппаратами на ушах; раненые в голову — со стальными обручами на черепах. Наконец, «Поломанные морды», как сами себя называют члены Ассоциации раненых в лицо. Многие носят искусственные носы, губы, подбородки, щеки. Но большинство черными масками прикрывает выломанные скулы, вырванные щеки, порванные до ушей рты.