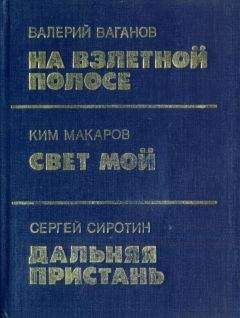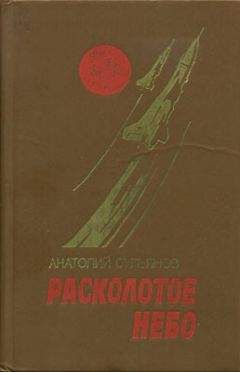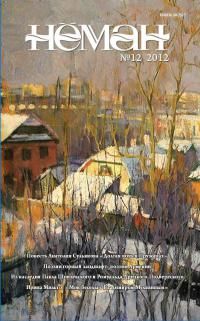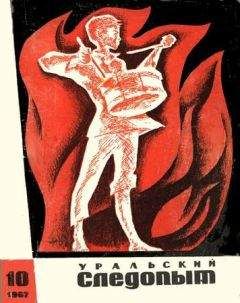Виктор Костевич - Подвиг Севастополя 1942. Готенланд
На немца мы наткнулись, обойдя автомобиль. Он, вероятно шофер, уютно сидел на траве, рядом с открытой дверцей, и потому был не виден с дороги. Спокойно жевал бутерброд, запивая еду из фляжки. Увидев нас, едва не подавился. В течение доли секунды пять человек, мы четверо и он, пережили почти одинаковый ужас. Смерть показалась неизбежной всем. Инстинктивно, не раздумывая, я приложил указательный палец к губам. И немец, тоже скорее всего инстинктивно, потряс головой в ответ. Мы моментально исчезли за деревьями – и ни минуту, ни две спустя так и не услышали ничего, кроме протяжного гула шедшего на Севастополь автотранспорта. Немецкий шофер оказался неглупым и сделал разумный выбор.
Мы быстро, почти бегом, двинулись по лесу, где редкому, а где густевшему почти непроходимо. Смелым судьба помогает, повторял я слова из сборника римских пословиц. Приятно было ощутить себя смелым. И очень хотелось, чтобы ребята, прикрывшие нас на шоссе, тоже смогли бы бежать, когда им представится случай.
Порывы страсти
Флавио Росси
Начало июля 1942 года
Не надо было пить, тем более коньяк, тем более в жару. Мне хотелось забыться, уйти, исчезнуть, но все-таки пить не следовало. Как мы оказались вместе? Почему мы оказались вместе? Зачем мы оказались вместе?
Ну да, мне хотелось бежать от Листа. Оберштурмфюрер объяснял капитан-лейтенанту преимущества выстрела в затылок. «Ваш младший лейтенант ничего не почувствует. Я сказал Ширяеву, чтобы он сам это сделал. Ширяев дело знает. Опыт».
Нет, не помню. Как мы добрались до квартиры? До моей квартиры, то есть до квартиры доцента Виткевича, где я когда-то был с Валей. Ванная комната, стулья, диван. Всё еще теплый после жаркого дня. Диван, на котором мы были с Валей. Лампа, та самая лампа. Груда бумаги на круглом столе. Запотевшая бутылка шампанского, опрокинутые рюмки, наспех заброшенный в рот бутерброд. Чужая улыбка ненужной мне женщины. «Ну, не стесняйся, я вижу, ты хочешь. Мужчины хотят всегда». Доцент Виткевич умер от голода, так мне сказала Валя. Сказала в ту ночь, вернее в то утро, когда после нашей ночи мы продолжали быть вместе. За что?
Ольга оказалась худощавой и деловитой. С анатомической точки зрения она представляла собою тип, переходный от Зорицы к Елене. Освободившись от юбки и блузки, но еще не скинув белья и чулок, нацелила в меня внимательные глазки. «Как тебе больше нравится?» – спросила чуточку пьяным голосом. Предложила варианты на выбор. Каждый был по-своему мил. Я растерялся и отдал бразды правления в ее оказавшиеся крепкими руки. О чем не пожалел. Она, полагаю, тоже. Но это было ночью. Потом наступило утро. Со ставшим привычным кошмаром.
* * *Да, это так, Флавио Росси. Ты бесчувственная скотина, мерзавец и трус. В твоем присутствии отправили на смерть вполне симпатичного тебе человека – и после этого ты пил вместе с теми, кто это сделал. Потом, когда тот уже валялся в яме – или где? – с простреленным затылком, ты нежился в объятиях этой твари, спору нет, внешне вполне привлекательной, но ненавидевшей его больше всех. Что двигало тобою в течение вечера? Профессиональный долг? Страх? Но тащить к себе в постель фрау Воронов тебя никто не заставлял.
Кто ты, Флавио Росси? Фашист – и более никто? Но ты ведь втайне гордился тем, что твой личный «фашизм» это всего лишь мимикрия, ни к чему не обязывающее и абсолютно вынужденное притворство. Надя не захотела увидеть в тебе фашиста. Сказала, что ты другой. Добрый. Ну да, добрый. Ольга Воронов, которая лежит с тобою рядом и улыбается во сне, вполне оценила твою доброту. Добрый… Пожалуй, так. Но не герой, не рыцарь. Не без страха, не без упрека. Черт, где она всему этому научилась? И какая растяжка, боже… Физкультурница.
Ладно, ты струсил там, солгал здесь. Ты предпочитаешь быть репортером, а не солдатом, что, между прочим, освобождает от обязанности убивать и резко уменьшает шансы быть убитым. Но зачем ты лег с этой сукой, прыгавшей от радости, когда отправили на казнь первого встреченного тобой за несколько месяцев благородного человека? И из последних сил, с помраченным алкоголем сознанием, старался доставить ей удовольствие? Навык, квалификация? Латинский любовник?
Первого ли, однако? Быть может, те мертвые, которых ты снимал на отбитой у русских горке, тоже были ничем не хуже? Но они были мертвыми и тебе ничего не сказали. А может, были благородными те дети, которых ты пытался угощать конфетками? Или тот увезенный службой безопасности поп, о котором презрительно отзывался веселый отец Филарет? Жертва абстрактного гуманизма в эпоху конкретных дел. Или, может, Филаретов помощник, отказавшийся сесть за стол вместе с Клаусом Грубером и Флавио Росси? Или покойный доцент Виткевич? Грузин-пулеметчик? Сожженный заживо в лесной сторожке дед? И знаешь ли ты, о чем думала Оксана Пахоменко, высаживая кустики на только что засыпанных оврагах, набитых трупами евреев и коммунистов? Репортер миланского издания Росси в упор не видел подобных людей, распивая шампанское, ведя интеллектуальные беседы и раздавая карбованцы и марки гостиничным шлюхам. Потому что такой материал никому был не нужен.
Первый благородный человек… Легко же забыл ты Надежду и Валю. Тебе ведь очень хочется забыть… Кто заставлял тебя вновь тащиться в СД? Поручение редактора? Ну да, неловкость перед Грубером. Ведь он старался, устраивал встречу с капитан-лейтенантом N, однокашником, коллегой, другом. И кто же ты после этого, грязная фашистская сволочь?
Пьетро тогда объяснил тебе, что значит Надино имя. Speranza, надежда. Она действительно была твой надеждой – сначала убитой Листом, а потом спокойно преданной тобой. Преданной в тот момент, когда ты драл на этом вот диване эту суку, которая никак не проснется, так ты славно ее отделал. Ты предал надежду, Флавио Росси. Больше надежды не будет.
А твой собутыльник и собеседник Грубер? Тоже фашист, точнее нацист? Или дело в чем-то ином, в душевной болезни? Видя то, что теперь происходит, антисемит Достоевский сделался бы активным юдофилом, потому что имел совесть. Так сказал однажды умненький Грубер умненькому Флавио Росси, вовсе не антисемиту. И категорически не рекомендовал ее иметь.
Ладно, хватит. Полно. Полно себя травить. Мы не герои и не борцы. Мы всего лишь обычные люди. Которым просто надо выжить в устроенной не ими кутерьме. Гордиться тут нечем, но не более того. Так-то, фрау Ольга Воронов. Как же сладко ты спишь, слегка прикрывши руками голову, словно бы защищаешь ее. От кого?
Я осторожно сдвинул с себя простыню, неслышно спустил ноги на пол, тихо встал и, стараясь не скрипеть половицами, направился в ванную. Прохладная вода мягко смыла пот и скверну прошедшей ночи. Из зеркала, просунувшись между стаканчиком с зубными щетками и флаконом одеколона, на меня растерянно поглядел немного уставший от жизни мужчина. Я скорчил глумливую рожу и отвернулся от мерзкого типа. Обтерев себя мохнатым полотенцем, вышел обратно в прихожую. Поколебавшись немного, занялся утренней гимнастикой. Странный распорядок, но я давно привык – сначала взбодриться под холодными струями, потом слегка размяться, а после сполоснуться опять.
На четвертом упражнении в дверном проеме показалась Ольга.
– Доброе утро, – сказала она и приветливо мне улыбнулась.
Это было забавное зрелище – долговязый итальянец приседает посреди прихожей и при этом мурлычет под нос. И отнюдь не «Смейся, паяц», что было бы к месту, а «Батальони Эммэ», относительно свежий патриотический шлягер. Как распоследний чернорубашечник революции. Хорошо еще, она не знала итальянского. Но чтобы понять, что такое «battaglioni della morte», было достаточно французского. Я улыбнулся в ответ и натянул трусы.
Пока Ольга копошилась в ванной, а продолжалось это долго, я безучастно лежал на кровати. Силы, вернувшиеся после душа и зарядки, снова куда-то исчезли. Под лучом, проскользнувшим между неплотно задернутых занавесок, заискрилась бутылка из-под шампанского, и от этого сверкания сделалось поганее, чем было. Я бы не отказался сейчас от другой такой же бутылки, только не пустой, а полной – а лучше сразу двух, ведь Ольга тоже станет пить, изрядно уменьшив мне дозу. Возможно, стоило порыться в шкафу, там должны были остаться две бутылки каберне – к сожалению, тепловатого от жары, но для красного вина это не так уж смертельно. На столе лежал бумажный пакет с жареным мясом и хлебом. В тарелке чернела виноградная кисть. Завтраком мы были обеспечены.
Ольга в распахнутом халате легким шагом вернулась в комнату. Ей шло оставаться без трусиков. Поджарая, с рельефными мышцами живота, с задумчиво-хищным взглядом. Полы, распахиваясь при ходьбе, приоткрывали слегка кучерявые прелести. Мне было тошно туда смотреть.
Она ловко запрыгнула на кровать и по-турецки уселась рядом. Заботливо полюбопытствовала:
– Как себя чувствуешь?
– Отлично, милая, – ответил я ей. Точно так же, как ответил бы Елене. Но Елены она не знала и моей интонации оценить не могла.