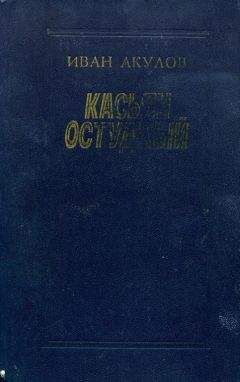Иван Акулов - Крещение
— Сватья Августа, ведь она, Шypa-то, обрадуется, что я пришла. Я вот ей блинчиков… — Августа хотела что-то сказать, по Елена не дала и слова вымолвить. — Из одних местов они. Шура с ранеными, а мой-то опять раненый. Уж хоть немножечко-то знает же она. Я, сватья, одним глазочком… Уж как она, бывало, поглядит, сватья Августа, уж поглядит как, ну ровно вот Колюшкин взгляд. А съездила-то она…
— Елена, да ты вроде беспонятная какая. Человек, можно сказать, совсем не в себе. Что уж ты так-то…
— Спасибо на ласковом слове, сватья Августа. Не обессудь тожно. Я, может, и верно, не с пути что… Но хоть гостинец, сватья Августа. Гостинец как хошь. — Елена положила свой узелок на леденелые тряпицы, которые держала Августа коченеющими руками.
Августе не хотелось принимать и гостинец, но, чтобы скорее отвязаться от Елены, не стала перечить, а уловив теплый запах блинов, растрогалась.
— Что мы-то, Елена-матушка? — всхлипнула она затаенно и завыла тоненько. — Мы-то при чем…
Елена опять дважды прошла мимо окон и начала обдумывать слова сватьи Августы: «Мало ли у нас, у баб. Не болезнь, а хуже хвори». «Это неуж? Да околеть мне — что это я грешу?» — осудила себя Елена за дурные мысли о Шуре, однако догадка не только не исчезла, а все больше крепла, когда Елена вспомнила, как растерялась сватья, как зло и виновато путалась, объясняя и не сумев объяснить болезнь дочери.
За дорогу Елена передумала все, и опять ей стало хорошо оттого, что не вязались в ее голове худые мысли о Шуре. И чтобы окончательно рассеять свои сомнения, решила зайти к Мохрину в караулку, повыведать у него, не приметил ли он чего особенного за Шурой Мурзиной. «Чего он, старый, мог приметить? Я это все навыдумала».
А дед Мохрин, завершив очередной обход магазина, приткнулся в углу и слишком поздно заметил Елену. Заправляя полы шубенки, отворачивался, сердито сопел.
— Подгноил зауголье-то, — рассмеялась Елена и прошла мимо.
Уж только через две недели здесь же, в магазине, от баб Елена узнала, что Шура Мурзина вернулась домой «в тягостях» по шестому месяцу.
Запертую изнутри дверь Елене открыла заведующая магазином Ира Туркова, молоденькая девчушечка, полногрудая и с тонкими строгими губами. В руках у Иры были накладные, и она, вернувшись к прилавку, стала читать их, перекидывая разношенные колесики старых счетов. На залощенном подоконнике, обкусывая заусеницы на коротких пальцах, сидел возчик хлеба Тимофей Косарев. Елена прошла в дверь за полки, выставила в складе деревянный щит, закрывавший окошко, надела свой истертый до дыр буханками халат и вернулась в магазин. Косарев, увидев Елену, готовую принимать хлеб, встал с подоконника, громко хлопнул по прилавку своими затвердевшими кожаными рукавицами.
— Ирка, ох нагреешь ты не одну душу, потому как у самой ни людям, ни бумагам нет веры. Принимай, говорю, или я уехал в двадцатый. Хлебушко на морозе быстро легчает, а мне походу вовсе давать перестали. Ежели я буду ждать, пока хлебушко остынет в экспедиции, вам его до вечера не видать.
Ира совсем подвернула губы, в сердитом вздохе тяжело подняла грудь. Ей противен был Косарев, хроменький и коротконогий, низко подпоясанный изопревшим ремнем, противны были Елена, бабы, с постными лицами ждавшие открытия магазина. Иру давно уже изнуряют одиночество и смутная боязнь утерять материнство. Чуть оставшись наедине, она плачет, совсем не утоляя слезами душу. Ей бы с кем-то поговорить, но только не с подругами, которые и без того знают больше, чем она может поделиться с ними.
Осенью в школе, где училась Ира, разместили госпиталь. Ире совсем не по пути, но она ходила и на работу и с работы мимо школы, чтоб хоть мельком увидеть раненых. Когда ей улыбались или махали из окон стриженые, в бинтах и застиранных больничных халатах бойцы, она весь день жила какой-то неясной надеждой, минутами радуясь, а минутами остро мучаясь своей тоской. Однажды утром, проходя мимо высокой чугунной ограды школы, Ира услышала, как кто-то окликнул ее. Она остановилась; по ту сторону ограды, держась белыми, будто бы прополосканными в щелоке руками за чугунный узор, стоял раненый, прижимая локтями к бокам своим новые костыли.
— Катя, родненькая… — Ира подошла к ограде, и боец вдруг заторопился с жалкой улыбкой — Катя, родненькая, брось письмо в почтовый ящик. Я мамаше в Уфу написал, где нахожусь. Ну вот, а через нашу почту пойдет — все вычеркнут.
У бойца крупный с горбатинкой нос, крупные ограненные губы и широкий раздвоенный подбородок. По лицу угадывалось, что это крепкий и сильный человек, но раны измучили его, и потому глядел он своими глазами по— детски беспомощно. У Иры от его глаз сжалось сердце. Она взяла письмо, а боец бережно обнял ее задержавшуюся руку своими захолодевшими на чугуне ладонями и подержал их с мольбой и лавкой.
— Тебя Катей зовут?
— У вас теперь все Кати. Так-то уж и Катей, — не обиделась девушка. — Свое имя есть. Ира.
— Ирочка, ягодка моя, — прицепился раненый к разговорчивой Ире. — Родненькая, приходи вечером к нам сюда. Сверточек белый возьми под руку, и через проходную тебя пропустят как нашу санитарку. А уж если спросят, скажешь, к лейтенанту-де Костикову. Это я, лейтенант-то Костиков. Я ждать буду, Ира.
— Вот так и разбежалась, — тряхнула Ира челочкой и пошла не оглядываясь, уж верно зная, что не сумеет не прийти вечером.
Как в сладком сне жила Ира весь этот день: затуманило ее голову слово «родненькая» — никто еще не называл ее так: «родненькая». «Ласковый-то какой».
Разваливая буханки на свежие с кисловато-сытым запахом четверти, Ира отвешивала суточные пайки и не поднимала глаз от весов, не хотела видеть баб и старух, ругливых в толпе и покорных, льстивых у прилавка.
К вечеру, когда на полках все буханки можно было пересчитать по пальцам, Ира со скрытой радостью объявила:
— Не стойте больше, хлеб весь тут.
Магазин поднял крик, дети откуда-то взялись — заверещали, захныкали. Длинноротая Налимова, в мужнином пальто с перешитыми почти под пазуху пуговицами, прорвалась, прямо к прилавку, отворила свой рот широко и нескромно:
— По знакомству небось половину-то оставила? Знакомство у хлебушка завелось. Вишь, ряшку-то обвеселила. Ведь слышали, бабы, смехом же она сказала, что хлеб весь?
Сварливый старушечий голос поддакнул, беззлобно совсем поддакнул, по привычке кого-нибудь есть поедом:
— Сытая. Небось о мужиках только и заботушки.
— Постыдились бы, девчушечка еще совсем.
— Шапкой не сшибешь, хе-хе.
— Эк, налил опять зенки-то.
А Налимова требовала свое:
— Вынь из-под прилавка! Вынь!
Елена Охватова, пришедшая убирать магазин, только что вымела под прилавком и крошки собрала в мешочек, потому решительно поднялась на Налимову и двумя словами срезала ее:
— Залезай — гляди.
— А я не какая-нибудь, чтобы доглядывать. А карточку мне отоварь.
Скандальный голос Налимовой всю очередь заразил криком: кто-то бранил Иру, кто-то войну и порядки, кто— то за хлястик тянул от прилавка Налимову, чтоб под шумок не получила хлеба без очереди. Налимова люто отмахивалась, как от собаки, но, боясь потерять хлястик мужнего пальто, подалась назад, и тут же перед нею сомкнулись спины, совсем отодвинув ее от прилавка. Налимова, только что широкоротая, с острыми злыми скулами, вдруг присмирела лицом, собрала на губах горечь-улыбку и втихомолку заплакала, засморкалась.
Ира развесила последние булки, собрала еще кому-то куски и обрезки и, как делала всегда, прямо на глазах покупателей сняла халат, бросила на опустевшую нижнюю полку и залезла обеими руками в ящик с грязными, замусоленными рублями и трояками. Боже мой, в каких карманах они только не бывали, какие пальцы не брали и не ощупывали их! Собирая на ладошке пачку из трояков, Ира чувствовала: они так засалены, что из них, как выразилась Елена Охватова, можно варить мыло.
Пока Ира готовила кассу, Охватова вытурила из магазина рассерженных и орущих покупателей, закрыла дверь на крючок и, ослабевшая вдруг, опустилась на подоконник, где обычно утром сидит возчик хлеба Косарев. Ей надо топить печи, мести и мыть полы, а она с наступлением в магазине тишины совсем обессилела и сидит бездумно, не то улыбаясь, не то глотая слезы.
— Ты что сидишь, тетка Елена?
— Да и впрямь, что это я сижу?
— Ты какая-то другая вроде, тетка Елена.
— Другая, девонька. Другая совсем. — Елена хотела пойти растапливать печи, но заговорила, заговорила, помогая себе куцыми, но горячими жестами: — Вот сдается мне, Ира, Николушка мой завтра придет. Все мои мысли и приметы на то падают. И вот сон я видела. Будто это я иду паровым полем, а оно, скажи, все взялось золотой сурепкой и все зыбится, клонится, а то заходит, и так меня всеё залихоманило. Села я будто на межу, легла, и вся моя боль — книзу, книзу, а потом отпустило — и нате, из подола крик. Пробудилась я, и пади мне в голову: да это ведь таким же летом у меня родился он, Колюшка-то, когда засуха была у нас, и, скажи на милость, заглохли у нас в то лето все посевы от сорняка. Осот да сурепка…