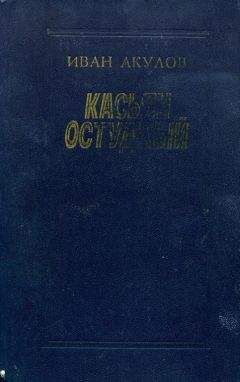Иван Акулов - Крещение
— Товарищ полковник, разрешите?! Рота прикрытия выполнила свою задачу! Однако!..
Полковник заикнулся было что-то о генерале и указал на идущего впереди, но Недокур не обратил на это никакого внимания, запально сыпал свое:
— …Роты как таковой нету, товарищ полковник, но лейтенанта Охватова мы привезли.
— Как привезли? Он что?
— Да вот так он, привезли. Ноги ему немцы прострелили. По костям. Операция нужна. Самая срочная. Помогите отправить. Ведь он… Вы ж знаете…
Генерал Василевский по голосам, отмеченным тревогой и отчаянием, догадался, что речь идет о ком-то особенном, повернулся, замедляя шаг:
— Ранило кого-то?
— Ранило, товарищ генерал. Командира разведки. Вот незадача-то. Сейчас мне недосуг, а вот освобожусь, товарищ…
— Да как же Охватов-то? — Недокур заступил дорогу полковнику. — Тогда и конец ему!
Те же цепкие руки опять потянули было Недокура в сторону от командиров, но он, остервенившись вконец, хапнул чужие пальцы на своем плече, как воровские, — произошло короткое, но выразительное замешательство, которое Василевский хорошо понял и спросил доброжелательно и мягко:
— Разведчик, говорите?
— Да, товарищ генерал, Возможно, слышали, он притащил обер-лейтенанта Вейгольда, фашистского казначея, — подсказал Заварухин.
— Вот видите как. Майор Лимановский, взять надо раненого. Местечко у вас найдется?
— Найдем, товарищ генерал. А ну неси своего… да шевелись, — приказал майор Лимановский Недокуру, все еще пестуя и обдувая омертвело слипшиеся пальцы.
Санитар дал Охватову камфарных капель, сделал ему два холодных компресса, раны промыл спиртом, и, когда лейтенанта несли к бронетранспортеру, он пришел в сознание, сам попил из фляжки воды, нарочно облив себе грудь и плечи и радуясь холодным струйкам, облизавшим бока до лопаток. Его положили на дно бронетранспортера. Недокур выдернул из-под катков пулемета тугой мазутный тюфяк и положил его в изголовье лейтенанта. Боец-пулеметчик заартачился было, что «максим» станет грохать по железу, но Недокур зловеще припугнул:
— Ты поговори у меня. Поговори.
Подошел полковник Заварухин, приподнялся к Охватову, нащупал его немую, горячо-влажную руку, заторопился, потому что генеральская машина уже тронулась:
— Ну, Охватов, ждать станем, слышишь? Догонять нас придется. — Заварухину было по-отцовски жалко доброго солдата, будто от сердца рвал кровное, и опять сказал то, во что поверил сейчас и чему воистину радовался сам: — С перевала уезжаешь, брат. С самого перевала. Тогда уж гляди не залеживайся, а то и не догонишь. Вот так.
— Да я, видать, теперь надолго…
Бронетранспортер дернулся, и от ног болью прострелило до сердца. В голове все помутилось, какая-то обида подступила к горлу, оттого что не мог вспомнить, кто это говорил с ним сейчас, полковник Заварухин или майор Афанасьев. И, напрягая память, опять потерял сознание.
По железному кузову прошелся ветерок, и предутренней свежестью обмыло броневые листы; со знойных щек Охватова уже давно свеяло пот, будто липкую душную паутину сняли с него. Он облегченно вздохнул и ясными, на миг удивительно зоркими глазами увидел синее рассветное небо в редких перед зарею, смирных, как лампадки, звездах, а за этими звездами угадывались потерянные, но осмысленные миры с непостижимой тайной бесконечности, любви и вечных страданий.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Старик Мохрин совсем высох и оглазастел. Худые ноги постоянно мерзли в коленях и плохо ходили. Перед непогодой в костях начиналась ломота и так хрустели суставы, будто рассыпались. Но Мохрин каждый божий день приползал в свою караулку, растапливал железку обломками магазинных ящиков и, попив жидкого морковного чая, принимал от заведующей магазинные запоры: ощупывал железные накладки, замки, печати. Над караулкой на столбе ветер всю ночь мотал тусклую лампочку, и возле стен магазина всю ночь ползали подозрительные тени. В дверях караулки, обитых войлоком и мешковиной, имелся застекленный глазок, и Мохрин каждую минуту глядел в него. В углу стояла берданка с веревочкой вместо ремня. Когда Мохрин шел в обход, то брал с собой берданку и нес ее, прижав локтем к правому боку. После осмотра возвращался в караулку насквозь продрогший, потому что вытертую продымленную шубенку мороз брал прямо навылет. Потом Мохрин долго согревался у железки, подставляя к жару то руки, то зад, то колени. Нагревшись до того, что у него тяжело оплывали веки, Мохрин расстегивал шубенку и начинал курить свою высокую, сделанную из ружейного патрона трубочку. Латунная трубочка быстро накалялась, и он придерживал ее за длинный деревянный чубук, набухший и почерневший от табачного дегтя. Старик давно уже не куривал хорошей махорки, и, если у него закладывало грудь, он считал, что это от слабого самосада, который приходится курить и который дает дурной налет на нутро.
Ночи Мохрину казались бесконечными. Поглядывая в дверной глазок, он тасовал в памяти прожитое, брал вне всякой связи то одно, то другое, и выходило, что никогда еще он, Мохрин, не живал так худо, как в нынешнюю зиму. Нынче ему совсем отказало здоровьишко, да и жить-то — по разумению старика — стало совсем незачем.
Месяцев уж пять тому получил Мохрин письмо — треугольничек, зашитый понизу черной ниткой. От Ванюшки, от сына, по адресу определил Мохрин. Распечатал — тридцатка денег на стол выпала. Обрадовался и стал читать, на вытянутую руку удалив от глаз листок:
«Дорогие сродственники Ивана Михеевича Мохрина, папаша с мамашей и жена с ребятишками, вчера мы ходили в горячий бой, и сын ваш геройски пал. Меня ранило, а его смертельно убило. Пришли санитары, а у него вся грудь порешена. О чем и хотел сообщить вам. Еще бы писал, да дюже болит моя рука. С бойцовским приветом к вам бронебойщик Матвей Загульнов».
Матвей Загульнов писал свое письмо на саперной лопате и написал немыслимо мало, потому-то дед Мохрин и не дал большой веры его письму, но через месяц пришла похоронка, и старик затосковал, стал ослыхаться, а за ночь на дежурстве так уставал, что, придя домой, не мог найти сил, чтобы заснуть.
В ту пору с фронта не приходило хороших вестей: немцы добрались до Волги, бои шли в Сталинграде, и дед Мохрин, никогда не бывавший на западе дальше Перми, считал, что «германец скрозь взял Расею». Как-то зашел Мохрин одолжить пяток спичек к Елене Охватовой и от порога не собирался проходить, но хозяйка, вся в черном, с темными провалами на лице, обрадовалась гостю, утянула его к столу, засветила лампу со стеклом, а коптилку погасила и убрала за занавеску на окно. Потом положила перед дедом немного хлебца, кусочек селедки, поставила чашку чаю с сахаром. Мохрин, изумленный негаданным радушием, посматривал на Елену и под навесом ее черного платка заметил, что она таится с чем— то своим, горестным, напугавшим ее и обнадежившим.
— Письмо небось от Николая?
— Письмо, Михей Егорович. Письмо. Это только подумать!..
— Что же он? Как?
— Да раненый он опять.
— Так это уж знаю.
— Ты пей чай-то, Михей Егорович. Он и без того не шибко горячий. — Елена слепо совалась возле стола, напряженно двигая бровями. А старик умял свою шапку на коленях, подвинулся к стакану, отпил.
— С лабазником?
— Не глянется? Осенью уж рвала — шумел даже.
Мохрин пропустил горяченького, подобрался весь, ожил, чувствуя, как тепло от груди полилось к ногам, ласково охватило поясницу.
— Мы раньше, бывало, наварим его да со сметаной. А рвем-то не всяк, что под руку попадет. Рвем до цвету, когда он в соку. Чайник у нас был медный, плечистый, как генерал, — крышку поднимешь, по всему покосу запаристый дух так и пойдет, так и пойдет. Жигалины, бывало, звон где косят, у Буланой заимки, а дух от мохринского чая и до них доставал, вот те Христос. Да, жизнь была.
Елена, то и дело подтягивая уголки платка на подбородке, достала из-за зеркала пачку писем, связанных шнурком, нашла последнее, зачитанное, в дырах по сгибам, разгладила на столе легкой ладошкой и заулыбалась вдруг, и заплакала в одно и то же время:
— Голова у меня, Михей Егорович, совсем, сказать, идет кругом. Ведь четвертый месяц пошел, как он лежит в этой самой Семипалате. Это какое же его ранение?
— Он писал тебе, что ранен в ноги. Кости, надо быть, задело. Помается. И об этом уж я говорил тебе.
— Учусь ходить, пишет.
Мохрин — старик неосторожный: что на уме, то и на языке. Ляпнул, будто по голове гвозданул Елену:
— Может, там и ходить-то не на чем. Вот и учится на каталочке.
— Да в уме ты, милостивец?