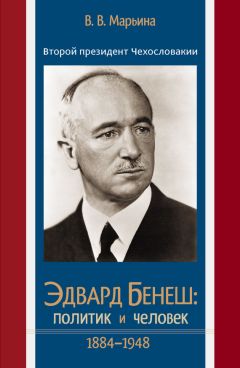Михаил Дмитриев - У тихой Серебрянки
Виталий, сын Антоновых, вскоре вступил в нашу комсомольскую организацию. Да и вся семья начальника штаба партизанской группы стала для подпольщиков своей, родной.
3Эх, Серебрянка, Серебрянка! На твоих улицах золотой, а не серебряный народ живет. Цены им нет, твоим людям, трудолюбивым и боевым, терпеливым и настойчивым. Они могут поддержать и наказать, помочь и отказать даже в кружке воды из своей тихой речки Серебрянка. В зависимости от того, что ты за человек.
Единодушие — вот мерило с незапамятных пор, мерило старожилов. Стоило появиться в деревне двоедушному человеку, как люди изгоняли его, словно уничтожали прыщ на здоровом теле. Так было до войны, такой закон остался и в тяжелую годину фашистской оккупации. А они-то, эти прыщи, вдруг повыскакивали наружу — староста Артем Ковалев, полицейский Иван Селедцов. Непонятно, как оказался в полиции считавшийся порядочным человеком Яков Янченко.
Помнится, как только они показали свое поганое нутро, мой дедушка, старый колхозник Степан Кабанов, сказал:
— Вот и еще болячки-прыщи выскочили на свет божий. Остерегайся их, внучек: такие бывают хуже ворога-супостата. Больше, чем немец, знают нас, нутром своим поганым чувствуют: или мы — их, или они — нас.
Он помолчал, прижмуривая выцветшие глаза, будто вглядываясь в что-то далекое.
— Забыли, совсем память отшибло, что Россию-матушку никто не покорил. Запомни мое слово: эти вражьи прихлебатели сами хлебнут горя.
Вспоминаю, как Полина Лукашкова при всем народе чихвостила Якова Янченко, своего родственника:
— Не очень-то старайся! Его, немца, можно и обмануть. Выкручивайся, как вьюн, а людей в обиду не давай. А не то самому придется выкручиваться, как гаду ползучему, перед своим народом. Да не выкрутишься. Дудки!
Нельзя сказать, что слова всегда отрезвляюще действовали на гитлеровских служак. Но все же людские попреки порою сдерживали Якова Янченко: он время от времени проявлял нейтралитет при выполнении приказов оккупантов, иногда помогал людям в беде.
Упорно и долго не поддавался второй прыщ — полицай Иван Селедцов. Этот любил властвовать, демонстрировать свое преимущество. Расстреливать евреев в Свержене — он готов. Ставить людей к стенке, бить ногой в живот, а рукой под грудь, если кто заперечит, — опять он. Но вылечил народ и эту болячку.
Однако не прыщом, а злокачественной опухолью был в Серебрянке Артем Ковалев, сельский староста.
В первую мировую войну он попал в плен к немцам, а затем — на работу к одному помещику. Каторжная это была работа: приходилось гнуть спину от утренней зари до поздней ночи. Привык и к свекловичной похлебке, и к оскорблениям, и даже к побоям. Был у гроссбауэра дом в два этажа под черепицей, были сараи. Все вычищено до блеска, нигде ни соринки, ни паутинки. И коровы, и свиньи лоснились. Даже в курятнике чистота, не говоря уже о дворе.
Правда, все это делал не сам хозяин, а Артем Ковалев с шестью русскими пленными, которые ели и спали в свободном стойле тесной конюшни.
«Вот самому бы так зажить! — все время думал Артем Ковалев. — А что? После войны доберусь на родину и заведу коров, свиней… Да и хозяин что-нибудь пожалует: ведь не напрасно тяну — три года скоро, а платы никакой. Дал бы телушку-пеструшку — пешком повел бы на поводке. Породистые! У нас таких нет. Вот тогда посмотрели бы в Серебрянке, на что гож Артем Ковалев».
Не дал ничего немец-помещик русскому пленному. Даже рабочую одежду приказал снять, почистить и повесить в сарае: дескать, пригодится еще. Выдал он Артему такое барахло, что повесь в огороде как пугало — не то, что воробьи, собаки шарахнутся в сторону.
На обменном пункте военнопленных, когда молоденький комиссар призывал солдат, находившихся в плену, строить новую жизнь и очень красиво рассказывал о ней, думал: «Вот бы на вольной земле и отгрохать такое хозяйство, как у бауэра…»
Неплохо зажил Ковалев только в колхозе: заработки хорошие, детей можно в город посылать учиться, в доме появились швейная машина, велосипед. Плен стал забываться. Только иногда, когда переест на ночь или лишнюю чарку возьмет, снилось ему не само хозяйство, а помещик-бауэр: будто он бьет страшными кулачищами, а у Артема руки и ноги отказали — ни защититься, ни с места сдвинуться…
И вот снова война с ними, с немцами. Теперь-то уж не плен, а только оккупация. Это — ого-о! — не сравнишь. А что, если?..
На стук в дверь немецкий офицер недовольно крикнул что-то.
— Разрешите, господин комендант? — лысоватый русский замер на пороге в полупоклоне.
Коменданта удивила не столько собачья покорность, сколько то, что эти слова были сказаны на его родном языке.
— О-о, да-да! Входите, входите!
Так оказался Артем Ковалев на посту старосты в Серебрянке. Укреплял свою власть кулаком и угрозой, точно выполнял немецкие приказы о заготовке продуктов, поставке рабочей силы и не забывал в то же время единолично распоряжаться оставшимся колхозным добром.
Вскоре особое внимание старосты привлекли комсомольцы и коммунисты. Комсомольцы хотели охладить его пыл: через жену, через сына Артура, в сущности неплохих людей, несколько раз предупреждали. Даже прикалывали на дверях дома записки. Но все это еще больше разжигало ненависть старосты.
По указке Артема Ковалева для «великой армии фюрера» полицейские забирали хлеб, картофель, сало, молоко, яйца, полушубки, валенки. Это он посылал людей в извоз с фуражом под Вязьму, на рытье окопов под Юхнов и Ярцево. Ни просьбы, ни подкупы, ни угрозы — ничто не помогало. Староста признавал только приказы оккупантов.
Осенью 1942 года Ковалев вместе с сестрой Груней открыл в Серебрянке школу. Видимо, прошлогодний урок со Сверженской не пошел впрок. Учителей и учеников взяли на строжайший учет, принуждали идти на занятия. Среди них были серебрянские подпольщики. Партизанское командование решило не дать возможности врагу калечить детские души. Надо было развалить работу и этой школы.
НАРОД ВСЕ ВИДЕЛ, ВСЕ ЗНАЛ
Спокойная, вся в крупных звездах, ночь плыла над тихой речкой Серебрянка. Только изредка всплеснет щука в заводи, и снова ни звука, ни шороха. Я сидел у куста развесистой ракиты, ждал партизан. Уже начал было беспокоиться, не случилось ли чего по дороге, как чуткую тишину нарушило кряканье селезня. Чуть в стороне эти звуки будто бы повторило эхо. Я тоже отозвался, правда, кряканье вышло каким-то хриплым: видно, озяб у реки.
Подошли Антонов, Будников и Журавлев. Мы собирались посетить отдельные деревни — подобрать связных, поговорить с людьми о переходе в партизаны.
Начали с Рискова. В этой деревне жила сестра Петра Будникова — Агафья. Подошли к ее дому, и Петр Васильевич постучал в окошко.
Агафья вскочила с кровати, спросонок подбежала к двери, положила на задвижку руку, но открывать не стала. А если это не Фома, а немцы или полицаи? Ее Фома с первого дня войны в Красной Армии. Но приходят же люди из окружения, а некоторые из плена. Агафья стояла у двери минуты три. Мы обождали, а потом Будников постучал снова — уже тихо, осторожно.
— Кто там?
— Свои. Открой, Агафья! — негромко попросил Будников.
Она услышала знакомый голос, но не торопилась отодвигать щеколду.
— Фома дома или нет? — уже в полный голос спросил Петр Васильевич.
Агафья узнала деверя, отворила двери настежь.
— А Петенька ты мой, — тихо заплакала она, обнимая Будникова. — Сначала я не узнала. Ну заходи, заходи в хату!
— Да я не один, с товарищами.
«С товарищами», — значит, с нашими пришел, и Агафья обрадовалась.
— Заходи и с товарищами… А от Фомы-то с сорок первого ни одной весточки. Ушел и как в воду канул… — только теперь ответила на вопрос Петра Васильевича.
Остаток ночи мы проговорили с солдаткой, а может, и вдовой — кто знает… Агафья согласилась помогать партизанам. На рассвете мы легли отдохнуть на чердаке, а она пошла в деревню Хизов Кормянского района, чтобы вызвать на встречу жену Будникова, которая там с тремя детьми скрывалась от гитлеровцев.
Под вечер мы незаметно выскользнули из хаты, вышли огородами за околицу. По дороге на Каменку встретили полицейского дедловского гарнизона Стефана Белоусова. Петр Будников до войны в этом сельсовете работал участковым уполномоченным милиции и, конечно, узнал Стефана. Нам рассказали, что Белоусов обижает население — не только грабит и бьет, но и расстреливает. На его совести смерть нескольких красноармейцев, попавших в окружение. Он доставил их в комендатуру и сам же расстрелял. Белоусов считался в комендатуре образцовым полицейским. Вот и сейчас, встретившись с нами, он схватился за винтовку, но был обезоружен. Ну и, конечно, понес кару как предатель Родины.
На опушке леса возле Каменки снова неожиданная встреча — с Иваном Белоусовым, полицейским из того же гарнизона.