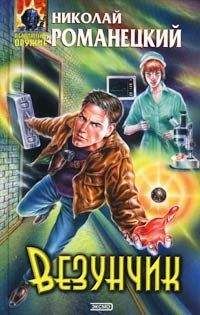Виктор Бычков - Везунчик
– Я тебе уже рассказывала про нашу семью. Не знаю, запомнил ты или нет, тебе было годиков семь. Я все боялась, что наш род полностью сгинет, тяжкие тогда времена были – жизнь любого человека не стоила и ломаного гроша. Как будто все посходили с ума: брат убивает брата, отец – сына, сын – мать или сестру. Все вдруг стали врагами, хотя еще вчера крестили друг у друга детей. Но свято верила, что вы с Танюшкой, сестричкой своей, обязательно останетесь жить. Все-таки вокруг, сынок, хороших, добрых людей больше, чем плохих. Вот на них я и надеялась. Поэтому хотела, да и сейчас хочу, чтобы вы знали кто вы на этой земле, откуда появились, как жили, кто ваши предки, и как они жили среди людей, как к ним относились их современники, и как они сами относились к людям. Это, сынок, не моя прихоть, а, наверное, в нашем сознании, в нашем поведении главная струна, наш становой хребет.
Мать на минутку замолчала, вспоминая, а сын боялся заговорить, боялся вспугнуть тот хрупкий, доверительный мир, что наметился между ними.
– Твой дед Макар Егорович, царство ему небесное, по молодости работал приказчиком у купца Востротина, был когда-то такой. Так вот, этот купец владел несколькими магазинами в Минске, Гомеле, Могилеве, и даже в Москве и Петербурге. Широкий был купец. Но в один прекрасный день, как раз перед первой войной с немцами, году этак в тринадцатом, четырнадцатом купчишка бесследно исчез. И, поговаривали, с большой суммой денег. Так или нет – не знаю, но молва такая шла. Пошумели, поискали, как водиться, да и бросили. Нет человека.
Деда в полицию по этому поводу вызывали, допрашивали, но найти что-либо против него не смогли. Хотя молва среди людей ходила, что купец пропал не без помощи приказчика. Ну, на чужой роток не накинешь платок, как говорится. Поговорили, посудачили, и со временем забыли. Только не стал больше работать Макар Егорович у купеческого сына, к которому перешли все дела по наследству. Ушел от него, но в аккурат, через годик прикупил себе Щербич несколько сот десятин земли, и винокуренный заводик. Опять всплыл случай с Востротиным: мол, откуда у простого приказчика такие деньжищи? И опять дело ограничилось разговорами, да только они не мешали ему скупать у населения яблоки, производить и торговать винишком.
Надо сказать, что дед твой, Антоша, предприимчивый оказался. Понял, что иметь собственные сады выгодней, чем скупать фрукты по окрестным селам, и засадил плодовыми деревьями огромнейшие территории в округе. Многие и до сих пор стоят, радуют людей обильными урожаями. За это уважать его стали, признали в нем хозяина. Хотя между собой толковали, что счастья на крови построить нельзя. Вроде как будешь на первый взгляд богат, а счастья нет, и не будет, потому что на крови оно замешено. А на ней оно не взойдет: счастье любит чистые души и руки, не замаранные тяжким грехом.
– К чему это ты мне повторяешь? – сын заерзал на порожке. – Что грех – я и без тебя знаю.
– Ты не дослушал, – мать положила руку на его плечо, но, увидев форменный, чужой мундир, резко одернула ее назад. – Это как народная примета. Богатство деда твоего продлилось не долго, а счастья, мне кажется, он вообще и не видел. Значит, не все чисто было у старого Щербича. Народ не зря примечал такие делишки. В то же время я не хочу наговаривать на своего свекра: сам по себе он был очень хороший человек, но себе на уме. Душу ни перед кем не открывал, не допускал к себе ни кого. И людям зла, вроде как, не делал. А вот в жизни и в коммерции ему точно не везло. Суди сам: жена умерла при родах, когда твой отец появился на свет.
– А ты откуда все про деда знаешь? – Антон не выдержал, спросил. Ему было не очень приятно слышать про недостатки, а, тем более, про темные делишки деда. А особенно про кровь и богатство. – Ты как будто рядом с ним была с детства.
– Зря ты, сынок, мне не веришь. Нас было пятеро у мамы. И жили мы в Слободе, где теперь школа стоит. Там наш дом был. Мама наша – белошвейка. Она обшивала всю округу. У нее были швеи, что шили простую, крестьянскую одежду, а были и для богатых людей. К ней, что бы ты знал, приезжали шить и из Бобруйска. Она очень хорошая мастерица была! Так что и я не из простых крестьян. Училась в городе. Закончила гимназию. А в детстве у нас были гувернантки, понял, содовая ты голова, кто твоя мамка? К нам то все новости и стекались. То один что-то расскажет, то другой. Вот так, непроизвольно, и знаешь, что делается в округе. На примерки приходила в день масса народа. А о чем можно говорить в таких случаях? Только и обсуждать кого бы то ни было.
– А ты мне про это ни разу не рассказывала, – сын был удивлен, даже отодвинулся от матери, чтобы лучше ее рассмотреть. – Что ж ты скрывала все это?
– Да изучала тебя. Боялась, что твой детский ум не выдержит всего того, что надо тебе услышать. Можешь понять не правильно, не так, как хотелось бы мне.
– Теперь то почему рассказываешь? – запоздалая обида закралась в душу Антону, неприятно сверлила ее. Он, как и в детстве, оттопырил нижнюю губу. – Считаешь, что сейчас пойму так как надо? Поумнел?
Мать не сразу ответила, а сидела, погруженная в свои мысли. Он уже начал терять терпение, когда она заговорила вновь.
– Я не знаю, сынок, будет ли у нас с тобой еще один вот такой день, вот такой разговор. Поэтому, давай слушать и слышать друг друга, чтобы потом не казниться, не мучить себя недосказанным, не переживать за ошибки родного человека.
Мама поднялась, сходила в избу, принесла две старые телогрейки, подложила на порожек. Достала из кармана два яблока, выбрала большее, с румяными боками и подала сыну.
– Ешь, полезно. И не обижайся. Я тебе зла ни когда не желала, Боже упаси! Верила, и до последнего дыхания буду верить, что ты у меня самый хороший, самый умный мальчик, заботливый, любящий сын, взрослый, здравомыслящий мужчина, способный взять на себя груз ответственности. Но ты изменился, притом, не в ту сторону, в какую хотела бы я, стал не тем, каким ты был в моих мечтаниях.
Сейчас понимаю, что где-то в твоем воспитании я что-то не так сделала, сказала, поступила не так. Изменить тебя я уже не смогу – ты такой, какой ты есть, так хоть своим рассказом попробую уберечь тебя от страшных ошибок в твоем будущем.
Женщина сняла платок, поправила волосы, потуже скрутила их на затылке, закрепила шпильками.
– Отец твой был непутевым человеком: главным для него было – покрасоваться на публике, показать, какой герой, какой он богатый человек, какой всесильный. Любил, чтобы ему льстили, заглядывали в глаза. И пил. Притом, пил очень сильно, часто и не знал меры. Макар Егорович к делу его не подпускал, бранил, а то и поколачивал кнутом за пьянки. Ты, слава Богу, не пьешь, а в остальном – напоминаешь своего отца.
Антон при последних словах матери заерзал, понимая, что она права как ни когда, как будто заглянула к нему в голову, в мысли. Ему стало неуютно, нехорошо, однако перебивать мать не стал, а продолжал молча слушать ее, накапливая в душе свое несогласие, готовность противиться ей, доказать, что это совсем не так, и он не такой, как она думает.
– Что ж ты так обо мне нехорошо то?
– Поздно разглядела, – просто ответила она. – Сейчас уже не исправишь. Раньше надо было. Слушай дальше, если тебе это интересно.
А деда твоего обуяла жадность и зависть к чужому богатству, к чужому успеху. Своим умом достичь всего этого он не смог, а, быстрее, не умел, Бог не дал таких способностей. Вот он и взял на себя тяжкий грех с купцом Востротиным.
– Но ты же только что говорила обратное, что не доказана его причастность к исчезновению купца? Как это понимать?
– А так и понимай, что богатство и благополучие на крови не долговечно. Это и есть неоспоримое доказательство. Вот и у тебя точно так будет, потому что жадность и зависть ты унаследовал от деда.
– Как ты можешь обо мне такое говорить? На мне нет чужой крови!
– сын подскочил с порога, забегал по двору, размахивая руками.
– Не ври самому себе – есть, и еще будет, – ее спокойный тон еще больше злил его, выводил из хрупкого душевного равновесия, что царил в их отношениях только что. – Но я тебе не все рассказала, ты дослушай. Садись на порог, а то я сбиваюсь с мысли, забываю, о чем надо говорить.
Антон опять уселся рядом с мамой, и обиженно засопел, как в детстве. Однако это не вызвало у нее прежней нежности, как когда-то, и она не стала его успокаивать, жалеть, прижимая его голову к своей груди, а снова заговорила ровным голосом.
– Дед хоть и был жадным и завистливым, но упрекнуть его в дальновидности, в практичности я не могу. Когда началась коллективизация, Макар Егорович понял, что его богатству приходит конец. Он не стал дожидаться прихода к нему в дом активистов-большевиков, а сам пошел к ним с заявлением о добровольной передаче земли, садов, винзавода в собственность новой Советской власти. И выбил у них из рук козыри: как после этого можно назвать его буржуем и мироедом, если он сам все отдал, пошел на сотрудничество с ними? Поэтому его и не расстреляли, а сослали на Соловки, и то по настоянию уполномоченного из райкома партии. А жители на собрании были против ссылки, заступились за нашу семью. Но с района потом приехали милиционеры, и забрали деда и отца вопреки воле людей. А меня, тебя и Танюшу не стали ссылать, потому что за нас были не только Лосевы, да почти вся деревня. Ты это должен помнить хорошо, не маленький был. Я к чему тебе все это говорю. Да к тому, что дед твой знал предел, меру, где надо остановиться, пойти обратно. На Соловках он умер в восемьдесят три года. Согласись, возраст немаленький. Видишь, против людей, поперек власти народной он не пошел. А я знаю точно, что некоторые подговаривали Макара Егоровича выступить против, звали его в свои организации. Только он не поддался, а все говорил, что на народ идти нельзя, потому как сотрет он любого, кто поперек его пути станет. А ты пошел своим путем, не только против своего народа, против своей страны выступил. Я на площади головы поднять не могла от стыда за тебя. Ты не поверишь, но люди сочувствовали мне, и жалели меня. Кроме презрения и ненависти к себе ты не получишь ни чего, на уважение и почет можешь не надеяться.