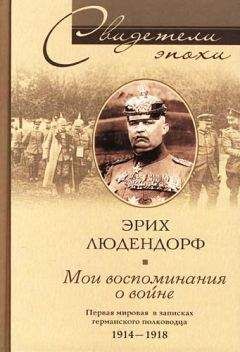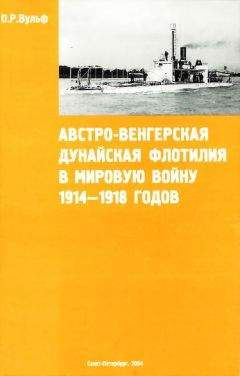Владимир Рыбаков. - Афганцы.
Борисов поднял голову:
— Вот что, ребята: погорячился я, вы уж простите. Многое для меня здесь пока непонятно. Но я хороший ученик, а вы — учителя. Все будет в порядке, главное — чтоб комар носа… Договорились?
Радостный гул был ему ответом. Отец Анатолий заявил:
— Я благословляю тебя, командир. Ты верующий?
— Нет.
— Все равно благословляю. А теперь приглашаю всех желающих, верующих, неверующих, агностиков, даже атеистов пойти к ребятам и вместе со мной помолиться о них, выслушать мою молитву.
Около старшего лейтенанта остались Сторонков и Бодрюк. Борисов сразу спросил:
— Хорошо, а как вы… приобретенное прячете? И как перебрасываете в Союз, ведь в Термезе шмонают, говорят, зверски? Если поднакроют, нам всем не избежать трибунала…
Бодрюк зычно загоготал:
— Знаем! Жадность фраера губит. Либо он посредникам слишком мало дает, либо не обеспечивает достаточно эту, как ее, Слава? Да, круговую поруку. На нас работают разные люди, есть и полковники. Получают они много, иногда до двадцати процентов, хотя риск и пяти не стоит. Наши ребята, дембеля в Союзе приходят к нашим посредникам в гости, на каждого у нас заведено дело — не хуже, чем в разведке. За предательство, обман — смерть. Если случайно возьмут, посредник нас не выдаст, он свою выгоду знает: семья бедствовать не будет. Каждого из нас ждет неплохая куча денег, отдельно идут пенсии матерям погибших, раненым, инвалидам из нашего Братства. Мы своих в беде не оставляем, многим уже куплены кооперативные квартиры, кто в селе — дома. Мы иногда камушков да золота можем за раз набрать на сотни тысяч. На нас всякая сволочь здесь и в Союзе наживается, жиреет, но тут ничего не поделаешь. Хочешь, лейтенант, можешь и ты вступить в Братство на равных правах. От всей души предлагаем…
— Спасибо, ребята, но я подожду. Видно будет. Мне еще нужно пообвыкнуть, пообтесаться. А теперь пойдем послушаем отца Анатолия. Надо же помянуть ребят. Ну и жара здесь, братцы, я вам доложу… неужели все лето так?
— Чем ближе к Пакистану, тем душнее. А в Афганистане ветерок дует, нам просто нынче не повезло.
Пошли.
Долговязый отец Анатолий говорил, показывая всем свой большой нательный крест:
— …Эту мою молитву, которую вы только что слушали, слушал и Бог. Он нас жалеет. Пожалеет он и наших ребят, лежащих вот здесь в мешках. Он знает, не по нашей воле воюем, убиваем людей и погибаем, знает, будь наша воля, — сидели бы мы дома, пили б пиво в предбаннике. Поэтому Он и обеспечил ребятам чистую бессмертную душу, а, следовательно, и рай. Грехи наши — подневольные, но это не значит, что мы должны о них забывать или списывать их полностью, или не замечать — они все же наши и принадлежат нам. О них надо думать, нужно их чувствовать совестью и душой, но не слишком, иначе потеряем лишний шанс вернуться домой. Ребята погибли в бою не по своей ошибке, вели себя правильно, кроме Пименова… разбросался, вот и ранили. Я к тому говорю, что никому из нас совесть и душа не должны мешать открыть огонь, когда этого требует обстановка. Главное, самое главное, сделать так, чтобы сохранить наибольшие шансы дотянуть целыми до дембеля. Господь знает, что мы в полном окружении — впереди афганцы, позади трибунал. Аминь. Может, лейтенанту хочется что-нибудь сказать, ведь он впервые прощается вместе с нами с нашими товарищами?
Сторонков сказал:
— Прости, лейтенант. Отец Анатолий, разреши людям надеть головной убор. Тангры, пойди к Коле, скучает небось. Прости, лейтенант, что перебил, но, сам знаешь, солнце тут, как и все, впрочем, остальное — не прощает.
Борисов ответил с искренним волнением:
— Да, конечно. Но, ребята, мне сказать нечего, кроме того, что мы друзья. Только я офицер и член партии… и неверующий. Так уж… Так что, в общем…
Богров воскликнул:
— Да что ты, лейтенант, верующих среди нас почти нету. Просто с отцом Анатолием и с его Богом как-то легче, только и всего. Так что не страдай. Все в порядке.
Борис Тангрыкулиев из Кара-Богаз-Гола отстранил друга рукой:
— Ты убитый, за себя говори. Убитым себя объявил, а говорит, что Бога нет. Есть Бог, есть Аллах, а ты, Колька, сам от себя бежишь. Пусть отец Анатолий скажет. Я сам слышал, как Богров молился, когда нас три дня обстреливали эрэсами, там Пашка Воронцов и Сашка Волковинский остались. Бог есть, это так же верно, как то, что у БТРа два движка или что Пименова ранили из «Энфильда».
Бодрюк вдруг посуровел:
— Сержант Сторонков, я тебя прошу в присутствии моих людей не разрешать своим вести религиозную пропаганду. Понял?
Сторонков взвился:
— Сержант Бодрюк, иди знаешь куда?
— Что?!
— А то. Не учи — ученый.
Отец Анатолий закричал:
— Хватит, ребята, только что наших отпевали, ссора не к лицу. Давайте лучше покурим и споем что-нибудь нашенское. Давай «Пусть кругом», заводи.
Слушая, Борисов поймал себя на том, что расслабленно улыбается. За два дня как двадцать лет прожил.
Пусть вокруг одно глумленье,
Клевета и гнет.
Нас, корниловцев, презренье
Черни не убьет.
Вперед на бой, вперед на бой,
На бой, кровавый бой.
Загремит колоколами
Древняя Москва,
И войдут в неё рядами
Русские войска.
Вперед на бой, вперед на бой,
На бой, кровавый бой.
Русь поймет, кто ей изменник,
В чем ее недуг.
И что в Быхове не пленник,
Был, а верный друг.
Вперед на бой, вперед на бой,
На бой, кровавый бой.
За Россию и свободу,
Если в бой зовут,
То корниловцы и в воду,
И в огонь пойдут.
Вперед на бой, вперед на бой,
На бой, кровавый бой.
«Песня как будто из тьмы веков, а — живая, нет в ней штампа. Корнилов, Корнилов? Диктатором, что ли, хотел стать? Надо почитать о нем что-нибудь». Мысли Борисова прыгали. Знал ведь, знал полковник, к кому посылал, все знал, сука хитрая. Ну, я на него не в обиде. Все ведь пока обошлось.
Борисов широко улыбнулся:
— А теперь всем отдыхать. Скоро вертолеты.
IV
Старший лейтенант Борисов, вернувшись на базу, лег на раскладушку вечером, а открыв сонные глаза, вновь увидел за окном вечер. Выходящий из палатки офицер обернулся:
— Проснулся? Сутки дрыхнешь. Приказали не будить. Старик доволен, после первого же дела — тебя к награде. Хочет под занавес еще одного героя родине преподнести. Так что поздравляю.
Борисов помотал головой, отгоняя остатки сна, прогоняя наваждение: вразумляющий голос мамы — вместо школы он день провел на катке…
Офицер, смеясь, звал на ужин.
— Постой, постой, — задерживал его Борисов. — Я больше суток спал, правда? И какая награда? Что ты мелешь? И где мои люди? Что они сутки делали? Как же это все так? Постой, дай прийти в себя. И мы, кажется, прежде не виделись?
— Капитан Кузнецов. Когда ты прибыл, лейтенант, я на работе был под Кандагаром, потому и не встретились. Мне еще три месяца осталось до академии. Потом афганский дембель, после отпуск… только дожить надо. А люди твои тоже дрыхли. Какая награда, не знаю. Но Осокин нужных слов не пожалел: мол, прибыл и сразу в бой, в перерыве между боями вел политическую работу, под пулями разъяснял личному составу трудное международное положение, показывал пример мужества, ну, и все такое. Тем более Осокину это было легко, что твои сержанты тоже хороших слов в твой адрес не пожалели, а это, прямо скажем, бывает редко. Осокину-то месяц остался, у него генеральские звезды уже давно припасены. Мы все под его командованием проявляем чудеса храбрости, находчивости, а когда нужно — подыхаем героями. Мы не только, да и не столько на себя работаем, как на него. Вокруг дела худо идут, авиация летит высоко, артиллерия палит куда попало, мотопехота все противника в мешок залавливает, поймать не может, мешки-то все пустыми оказываются. Только мы, саперы да спецназ, чего-то сегодня стоим… так что быть Осокину генералом и генералом живым, чего и вам желаю. Идем ужинать, полковник приказал возиться с тобой, как с именинником.
Борисов радостно кивнул головой. Как быстро все пошло. Не ожидал такой удачи. Несколько дней — и уже к награде. Но… неужели всего несколько дней прошло… даже меньше, чем несколько. Не может быть. Мне кажется, я здесь уже вечность. Но как мне все-таки повезло, обнять этого типа, что ли?
— Да, да, пошли ужинать, надо отметить. Хотя нет, подожди, я должен прежде навестить ребят, у меня раненые есть, подумают еще, что я о них позабыл…
Капитан Кузнецов рассмеялся:
— Они об этом только и мечтают, чтоб ты о них забыл. А своих «попятнанных» после ужина навестишь, никуда они не денутся, у них сестрички там добрые, знаю, я сам три раза у полковника Штрехера валялся… идем, идем. Ты не поверишь. Меня месяцев пять назад осколком нашей же мины задело, бок сильно поцарапало (но двоих я на этой мине проклятой потерял). Так вот, лежу я, гляжу, медсестра новая, милая, узнаю — Боровицкая ее фамилия. Еще познакомишься с ней. Я, значит, подкатился к ней, к Наташе, ее так зовут, подарки, все такое, а она ни в какую, хоть убей. Главное, ведь вижу, что не ломается. Ну, отстал. А на следующий день, вернее, в следующую же ночь застукал я ее на складе с солдатиком, лежала с ним на топчане среди медицинских коробок. Да еще с салагой, ему осколком случайно здесь же на базе во время обстрела оторвало ухо и кусок щеки, ну и остальную харю чуть перебороздило… Направо надо, лейтенант, забыл дорогу в столовку, что ли? Да, прогнал я салагу и говорю ей, что же ты, мол, делаешь, я к тебе всем сердцем, а ты… Она увидела, что я по-настоящему разозлился, и тогда только всё рассказала. Оказывается, их сестричек-подружек штук восемь поехали сюда, и перед тем, как их поразбросали по гарнизонам и госпиталям, они успели договориться и дать клятву, что отдаваться будут только несчастным солдатикам и только получившим ранения, но ни в коем случае не офицерам. Мол, офицеры на войне работают по своей профессии, а, главное, что офицеры и так могут себе легко женщину найти, деньги у них есть, свобода передвижения и красивый мундир. Ну, лейтенант, что в таком случае делать? Это же, как в засаду попал. Что скажешь?