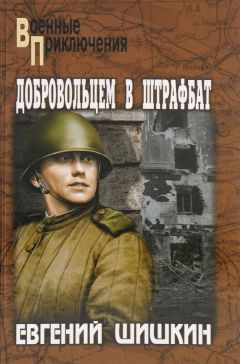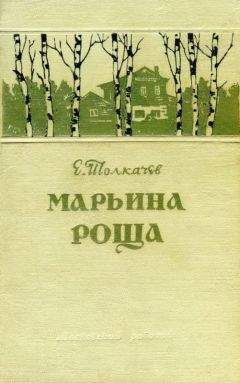Евгений Шишкин - Добровольцем в штрафбат. Бесова душа
Они стояли на берегу, глядели на излучину реки, где сталистая вода упиралась в зеленую оторочку берега. Казалось, на этом русло будто бы заканчивалось, исчезая неведомо куда. Лодка вдали плыла по самой середке реки — видать, по течению — легко, часто и высоко взмахивая веслами, точно хотела взлететь, да никак не могла оторваться.
— Хватит тебе себя-то казнить, — говорила Лида. — Верно наши бабы-то рассуждают. Федора в тюрьму забрали — не на фронт. Поди, к лучшему. В том спасенье его… Жизнь-то теперь переворотилась. Всех под ружье. Паню моего увезли. Максима забрили. Ты брата сегодня отправила. Не на вечерку поехали. И Викентий еще неизвестно, вернется ли? Ты, глядишь, Федору-то жизнь нечаянно сберегла. У любого зла, говорят, добрый оборот есть.
— Ах, Лида! О чем ты? — вздохнула Ольга. — Разве я за войну ответчица? Она на всех легла. А тюрьма Федору — от меня зависит… Пойдем. Пора уж.
По берегу, мимо ивовых зарослей с посерелой, сниклой листвой, возле которой виляли с прозрачными двойными крыльями большие стрекозы; мимо белоствольного караула из высоких ровных берез в первых желтых подпалинах дорога вывела на открытое место. Среди щетины стерни, где надрывались сверчки, среди выкосов с уложенным в шатры сеном дорога вытянулась светлой тесьмой вперед, коромыслом изогнувшись на дальнем холме.
Ольга покусывала сорванную былинку. Лида поглядывала на подругу и пасла на устах значительный вопрос.
— Ты чего ж, выходит, ждать его намерилась? Целых четыре года? — решилась наконец Лида.
Ольга не очернила, не обелила. Но и неответность говорила сама за себя. Пробуя заглянуть на будущее, Лиде делалось как-то смятенно, словно подруга за четыре года утратит ходовой невестинский возраст, отцветет и состарится. Да и знать бы Ольге, кого ждать? Каким-то Федор из тюрьмы вернется? Правда, и сама Лида побаивалась состарится, проводив на фронт нареченного жениха Паню. Сколько войне-то длиться? Год? Два? Ну уж не четыре же!
Ольга заговорила:
— Если к Викентию не прибилась — умом-то разве полюбишь? — то Федора дождусь. Пока он там, буду дни считать. Его людской суд судил, а меня пускай сам Федор рассудит. — Она поправила шпильками растрепавшийся клубок уложенной на затылке косы; щурясь на солнце, усмехнулась горькой усмешкою. — Как-то раз этой же дорогой с Федором шли. Солнце пекло, пить хотелось — спасу нету. Он все шел да меня уговаривал: «Потерпи, Оленька, вон за тем угором в лесочке ключ есть — там и напьемся». Мне от солнца в голову ударило, в горле, как в жаровне, все пересохло. А он меня все уговаривает. Столько ласковых слов наговорил! Терпеть упрашивал… Может, не пересох еще ключ-то. И еще раз из него напьемся.
Потом они долго шли молча. Под необъятным небом с выцветающей осенней голубизной, посреди огромного суходола на вытянутой ленте дороги — две крохотные фигурки на таком непомерном просторе земли! И вдруг, сперва тихо, чуть дребезжа на крайних нотах, в затишный простор поднялась с дороги истязающая томным мотивом девичья песня. Она поднималась вверх, на высоту, не сопоставимую с маленькими фигурками на земле, растекалась над дорогой и полем, образуя незримую сферу вдохновенного звука. Высокий голос Лиды рвался из груди и с каждой певучей строкой становился все сильнее и объемнее:
Ты лети, сера пташечка,
К другу милому,
Ты неси, сера пташечка,
Грусть мою, печаль.
Пусть узнает он,
Друг сердечный мой,
Что не жить без него
Красной девице…
Вскоре и Ольга подхватила песню. Тоном пониже, погуще, в лад подруге повела мотив. Их голоса . слились воедино, цепенящей тоской заполонили сотканную из чего-то живого, но кажущуюся пустотой окрестность.
Ты вернись ко мне,
Сера пташечка,
Принеси привет
Друга милого.
Расскажи о том,
Когда ждать его,
Когда ждать-встречать
Красной девице…
Песня отпылала голосистым грустным закатом. Подруги остановились на дороге, со слезной поволокой на глазах обнялись — соединились, как в двуголосье песни, обоюдной девичьей кручиной.
— Ох, Лида! — вздохнула Ольга, хотела еще раз обмолвиться про Федора, в чем-то признаться, но в последний момент постеснялась подруги, отвела глаза в сторону. — Тучи вон поднимаются, — сказала она отвлекающе. — Слоистые тучи-то. Я всегда замечаю: когда такие появятся, вскорости дожди выпадают. Затяжные.
На одном краю неба стояли высокие перистые облака — словно белые кудельки овечьей шерсти, а ниже, под ними, выстилались серым клубящимся слоем облака кучевые.
И впрямь, уже завтра сухмень бабьего лета сойдет к довершению. На спекшуюся землю жнивьев, на выгоревшую траву луговин, на редколесье урочищ и на таежную чащобистую глушь, на завьюженные пыльными суховеями дороги зарядит обильное водяное крошево.
Набирала разгон осень.
15
Календарная зима пока не повела отсчет. Но зимним предвестником, первым снегом, заявила о себе рано — еще не весь желтый тополиный лист оборвался на землю. Снег выпал ночью, обильный, крупный, — ослепительно бел, и будто бы весь мир поутру внезапно облагородил, прибавил в нем свету. Село Раменское, казалось, аккуратно поуменьшилось, ужалось темными строениями под накинутым снежным балахоном. Грязная колеистая дорога, коричневая комковатость усадов, серость домовых крыш и надворий — все и повсюду прибрала свежая подзабытая белизна. Словно перевернув захватанную, испещренную помарками страницу, природа открывала новый лист, где ни пятен, ни ошибок, ни первых заблуждений в строках…
Ольга нынче пробудилась поздно — когда сумрак утра окончательно развеялся и новый день сиял светом первой белоснежности. Она радостно заулыбалась, еще не осознавая чему, и еще долго лежала в постели. Ей было по-естественному хорошо, бездумно, просторно и легко в светлой избе. Она скоро догадалась, что это первый снег породил такой простор. Именно этот снег и теплил в ней бессознательную радость — такую, какую сполна человек испытает лишь в детстве, когда светлое утро льется в светлую душу. Ольге не хотелось вставать, ей хотелось подольше сберечь в себе это детское изумительное чувство, — чувство оторванности от любых воспоминаний, чувство приятия белого, непорочного листа, на который заново и начисто пишется жизнь.
Наконец она встала и, чтобы воочию убедиться в присутствии снега, подошла к окну. На сирени, что под окном в палисаднике, причудливо изгибаясь в угоду расположению ветвей, нарядно лежал снег. Даже без солнца в глазах рябило от его белизны. Ольга опять заулыбалась, все еще не подпуская к себе заботы наставшего дня, и перешла к другому окну, не заслоненному сиренью, чтобы получше увидать преображенную улицу.
Она выглянула в другое окно — и тут же отшатнулась от него. Спряталась за простенок Лицо ее стало матовым уже не от свечения снега, а от собственных вспрянувших мыслей. Осторожно, таясь, она снова выглянула по-над занавеской на улицу — удостовериться, что не примерещился ей этот человек. И вправду — не примерещился.
По центру улицы, хромая, опираясь на кривоватый длинный батог, в толстом черном зипуне и лохматистой шапке, густо обросший сивой бородой — только нос да глаза видать, — с мешком на плече шагал старец Андрей. Возле него трусил, не опережая хозяина, серый, волчьей прирученной породы, кобель. Старец шагал медленно, но ровно и твердо и по самой середке улицы — темный, неуклюже-броский и несуразный на фоне красивой белизны снега. Ольге казалось, что он несет в Раменское какое-то жуткое сообщение. Хотя что он мог принести из своей «берлоги» — так называли его одинокую обитель некоторые жители!
Укрываясь за занавеской, Ольга следила за его мерным передвижением, а когда старец поравнялся с ее домом, опять отшатнулась: то ли пригрезилось, то ли вправду — старец глянул прямиком в Ольгино окошко, глянул будто в нее саму… Припав спиной к простенку, испуганно сложив руки на груди, она стояла не шевелясь и не смела высовываться впредь, покуда чувствовала старца на улице. Она только угадывала воображением, как старец Андрей пятнает девственный покров неловкой ступней и деревяшкой, тычет снег кривым посохом, а рядом с ним следит лапами преданный ему кобель.
Коротка и призрачна оказалась радость белого утра. Словно тень Федора простерлась над Раменским, легла на дом Ольги, затемнила ветви сирени, так искусно обнесенные первым снегом. «Что же это такое-то? Как болезнь! Всюду Федор, в каждом дне, в каждом часе. Неужели ему так плохо, что и меня от этого мутит? Или клянет он меня? В цепях своим худым поминанием держит…»
16
Дед Андрей прихромал в завьяловский дом. Отстучал деревянной ногой по сеням, вошел в горницу, поставил мешок на табурет у порога, снял шапку и поклонился — поздоровался с Елизаветой Андреевной и Танькой. Как положено, перемахнул крестно грудь, глядя на киот.