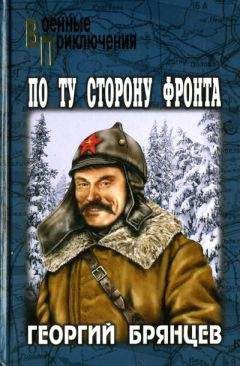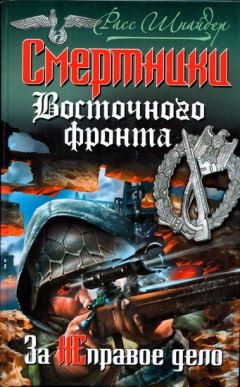Северина Шмаглевская - Невиновные в Нюрнберге
— Нюрнбергский процесс должен явиться плотиной. Чтобы больше никогда не было преступлений. Никогда. Понимаете? Никаких преступлений на всем земном шаре!
Видно, доктору хотелось добавить что-то еще, но все молчали. Приглушенные звуки все еще дремлющей по-воскресному старой гостиницы то усиливались, то утихали, гасли в глубине ее стен. Неужели человеческая речь бессильна перед событиями, очевидцами которых мы были?
Хриплое дыхание Буковяка скорее похоже на треск в проводах. Он заговорил, и лишь постепенно неразборчивые звуки начали складываться в слова.
— Сейчас сюда придет Михал Грабовецкий и сможет ответить на все вопросы и сомнения нашего прокурора. Он специально ездил в Варшаву за результатами работы комиссии. Наверняка привез данные, протоколы показаний свидетелей.
Кашель одолел его, он долго не мог прийти в себя, но вот наконец успокоился.
— Совершенно отдельно следует рассматривать вопрос о гитлеровском генерал-губернаторе Гансе Франке. Мы пытались добиться выдачи его Польше, суд над ним должен состояться у нас в стране, он несет ответственность за трагедию нашей страны. Но Франк значится среди главных военных преступников, его нам не выдадут, его судят в Нюрнберге. Не удалось доктору Оравии добиться этого, хотя он тщательно подготовил материал о его преступлениях в Польше. Обвинения, выдвинутые против него, были бы полнее, если бы мы представили их в польский суд. Здесь же, в Нюрнберге, преступления Франка рассматриваются как один из разделов всего комплекса проблем. Закончится Нюрнбергский процесс, возможно, о нем даже забудут, а в Польше будут и будут появляться факты и материалы, отягчающие вину Ганса Франка. Поэтому сейчас показания узников Освенцима или Треблинки важнее документов и цифр.
Сгорбленный, вросший в кресло Буковяк повернулся всем телом к собеседникам. Он распахнул дверь стоявшего за его спиной шкафа — при ярком свете лампочки, осветившей полки, мы увидели кипы скоросшивателей. Буковяк снова постучал в стенку, за которой находился номер Грабовецкого.
— Пан Михал, когда вы наконец распакуете свои вещи? Расскажите, как обстоят дела в Варшаве!
Он с минуту подождал. Илжецкий выпятил вперед нижнюю губу и шмыгнул носом. Буковяк обеими руками потер лицо, видно было, что разговор его утомляет.
— Отлив кончился, — сказал он, тяжело дыша. — Советую смотреть в оба. Можно многое увидеть. На каждом шагу. Особенно завтра на заседании Трибунала.
Из его горла снова раздается хрип, и, снижая голос, он шепотом говорит:
— Смотреть в оба.
Приступ кашля опять не дает ему говорить. Он прикладывает платок ко рту, пытается приглушить хрип больных легких.
Прижав толстые пальцы к губам, ко мне обращается Илжецкий:
— Американские юристы не признают показаний свидетелей. Для них важен только документ. Умно составленный документ. С комментариями. К которому можно в любой момент вернуться.
Буковяк наконец справился с кашлем, спрятал платок и старается улыбкой загладить тяжкое впечатление.
Илжецкий отошел к двери, встал перед зеркалом, полюбовался своей детской головкой с младенческими завитушками, привел в порядок прическу, старательно поработав щеткой. Все молчали, ждали пана Михала.
Илжецкий иронично заметил:
— Пан Михал, видно, лег вздремнуть. У него, по-моему, нет ни комплексов, ни морально-философских проблем. Отсыпается за войну. Отсыпается после командировки в Варшаву. Отсыпается по очереди за каждую усталость.
Буковяк снова нервно застучал в стенку, наконец взял телефонную трубку, набрав номер соседа, терпеливо ждал ответа.
— Ну как работать в таких условиях? — вздохнул он и вдруг громко вскрикнул: — Пан Михал, наконец-то, где вы пропадали? Все время были у себя? Не морочьте голову! Ждем вас.
Казалось, со злости он сейчас швырнет трубку, но он осторожно положил ее и, низко склонившись над столом, задумчиво разглядывал карту.
В приоткрывшейся двери показалась лысина Михала Грабовецкого.
— Я вам не помешаю?
— Дайте же наконец последние данные! Сколько погибло в Варшаве! — нервничал Буковяк.
Грабовецкий усиленно потер ладонью виски.
— Что вам сказать? Из-за морозов и снегопадов снова отложили земляные работы, придется ждать до весны. Этого следовало ожидать. И мои предположения полностью подтверждаются: мы не получим этих данных до вынесения приговора. Пока, пан прокурор, ничего не получится с эксгумацией, нет людей, зима. Я разговаривал с генералом, он просил это вам передать.
— Что?!
Пан Михал беспомощно опустил руки.
— Значит, будем ждать весны. — Он потер лоб и повторил шепотом: — Ждать весны.
— Весны? Ни до какой весны я ждать не могу! — рявкнул Буковяк.
Грабовецкий развел руками:
— Я только могу повторить: сейчас в Польше проводить раскопки некому.
Буковяк опять зашелся в сильнейшем кашле.
Илжецкий продолжал возиться со щеткой, опять пригладил волосы пухлыми пальчиками и, подражая фальцету Грабовецкого, повторил:
— Ничего не получится с эксгумацией, сами понимаете, коллега. Ничего, абсолютно ничего…
Ошеломленная вышла я из гостиницы. О разговоре в комнате Буковяка мне не хотелось думать. Хотелось успокоиться, привести в порядок свои мысли. Ссора земляков?! Здесь, где у нас почти никаких надежд? Меня ослепил свет, искристое сияние снега и удивительно ласковое и теплое солнце, внезапно выглянувшее из-за облаков. Первое прикосновение весны, еле ощутимой в это время года. Оно согрело мое лицо, заставило дышать глубже. Осыпающийся белой пылью иней, пахнущий весной ветер, смешиваясь, несли облегчение.
Освободившись от чего-то, что было выше моих душевных сил, я спокойно шла; не хотелось возвращаться, пока последний солнечный луч не исчезнет за крышами домов, что должно было произойти уже скоро: февральские дни коротки.
Я расслабилась, исчезло напряжение, не отпускавшее меня с того момента, как мне сказали, что я поеду в Нюрнберг, и все долгие дни мучительного пути. Темная комната Буковяка еще больше взвинтила меня, тон разговоров поверг в уныние. Сейчас все это куда-то ушло.
Перед гостиницей было пусто. Неожиданно на улицу вышли трое. Я понимаю, что вышли чужие мне люди, и не обращаю на них внимания. Седовласый мужчина в поношенном пальто идет бочком, пропускает вперед молодую женщину и ее спутника. Седовласый угодливый немец вряд ли имел что-то общее с планами Адольфа Гитлера, почему же в каждом его жесте такое смирение? Наверное, он всегда был предупредителен и только я усматриваю в его поведении нечто особенное?
— Bitte, gnädige Frau! Bitte! [8] — говорит он взволнованно.
У подъезда стоят несколько автомобилей. Шоферы-немцы внимательно следят за дверью «Гранд-отеля». Американский солдат-диспетчер кивает головой одному из них и почти тут же отсылает машину обратно, вызывает другую, более шикарную. Обшарпанная рухлядь возвращается на свое место. «Gnädige Frau» подходит к открытым дверцам автомобиля.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
На кого похожа эта женщина? Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить, кто это. Очень элегантная, красивая, уверенная в себе, у нее решительные движения, стройная фигура. Она оглядывается по сторонам, вдыхает морозный воздух, словно пьет, открыв рот, чудесный напиток. И вдруг замечает меня. Сдвигает брови — и тоже не может вспомнить, но это длится одно мгновение.
— C’est vrai?[9]— изумленно спрашивает она и переходит на польский: — Здесь? В Нюрнберге?
Ну вот, сомнения развеяны. Как она изменилась, но голос остался прежний. Никогда бы я не поверила, что человеку достаточно вернуть свободу, и он так перевоплотится.
— C’est vrai? — радостно повторяет она.
Тот же мягкий, приглушенный голос, как в тот январский день, когда я увидела ее сгорбленную худую спину с торчащими под полосатой робой лопатками. Бритая голова, шея по-собачьи втянута в плечи. Доходяга пыталась протиснуться в разношерстную группу лагерных оркестрантов.
Эсэсовец забраковал уже множество кандидаток. Решительные Weg! Ab! Raus![10] быстро укорачивали длиннющую очередь. Только с этой безволосой доходягой он начал канителиться, спросил о чем-то, но, не зная французского, вызвал переводчика.
— Dolmetscherin! Sofort![11]
Я услышала тогда дрожащий от холода голос, краткие ответы на вопросы переводчицы. Бельгийка. Училась в Польше, у профессора Джевецкого, по классу фортепьяно. Играет Шопена, Моцарта, Листа, Бетховена, Грига.
— Name? Vorname?[12]
— Соланж…
Немец не слышал такого имени, велел ей расписаться.
Наверное, не только от холода дрожала ее грязная, посиневшая рука над листком бумаги. Через ее плечо я прочла: Соланж Прэ.
Эсэсовец принялся острить: