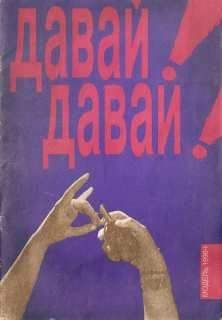Василь Быков - Блиндаж
Она спрятала под хворостом в сенях торбу с ее таким ценным приобретением, а сама вскарабкалась на чердак с порушенной страшной кровлей поглядеть, что же там стряслось с трубой-дымоходом. Страх было видеть эти разрушения! Стропила, видно, падая одной стороной, опрокинули ее склоненную трубу, половина которой теперь лежала под соломой на потолке, чернея отверстием разломанного дымохода, верх же был взрывом низвергнут вниз и разбросан по огороду. Так вот почему дым из печи совсем не шел вверх, идти ему было просто некуда, странно, что еще кое-как тянуло с грубки. Но, протапливая грубку, можно было сжечь все дотла, где тогда жить Серафимке? Хоть самой переселяйся в блиндаж к мужикам. Видно, ничего уж тут она сделать не могла, разве что заплакать, и она слезла вниз, невесело убедившись, что топить в хате невозможно.
Но тогда где ж топить?..
Остаток того дня копала бульбу на огороде, ссыпала ее в сенях, неотвязно думала: что делать? И все поглядывала на большую целенькую печь за огородом — знакомое соседское устье печи просто притягивало ее. Наверно, там было все исправно, не убереглась хата, зато выжила печь, у которой не было хозяйки.
Под вечер Серафима уже не удержалась и пошла на чужое обгоревшее подворье. Хоть было очень неловко тайком шастать по чужой усадьбе, но она немного прибрала горелый друз от бывшего порога, разгребла лопатой угли, положила пару обугленных досок, чтобы удобнее было добраться до печи. Дров здесь было в достатке, особенно головней, кусков бревен и досок — видимо, с потолка. Она очень опасалась, чтоб ее не увидел кто-нибудь плохой, все ж усадьба была чужая. А больше всего допекала забота, как уберечься от полицаев, чтобы те не дознались о ее мужчинах в траншее?
Пока что сожженная деревня казалась безлюдной, хаты до пожара стояли не близко одна от одной, и теперь здесь, с этого конца, на усадьбах не видно было никого. Только днем Серафимка разглядела, как на другом конце, возле шоссе, кто-то, как и она, ковырялся на Янковом погорелище — видно, старая бабка или ее невестка. Видать, теперь здесь у каждого были свои заботы и свои слезы. Может, это и лучше, думала Серафимка. Главное, чтобы снова не пошел дождь, а то когда польет, возле печи особенно не постоишь. А может, и спокойней будет, когда дождь, никто злой не набредет на ее работу.
Ей бы вот только смолоть.
Уже смеркалось, когда она взялась подготавливать соседский жернов: принесенным из дому веником старательно вымела желоб, обмела от пепла камни. Рукоятка и ее крепление вверху сгорели, но рукоятка не главное, видать. Куда важнее были камни. Знакомые камни, сильно стертые за десятилетия работы. Верхний разбит и сложен из трех кусков, сжатых воедино железными обручами, — не очень ровный и круглый камень, но молол вроде ничего. Не имея своего жернова, сколько перемолола на нем Серафимка — и когда жила с родителями-единоличниками, и после, в колхозе. Больше, правда, когда с родителями; колхознице же молоть выпадало не часто — с осени да зимой. Под весну уже зерно под размол кончалось, ели бульбу, у кого та еще водилась. После, до начала лета, кончалась и бульба. Вот тогда начинался великий пост…
Когда совсем стемнело, и над остывшими пепелищами установилась ветреная ночь, Серафимка решилась. Боязливо, как воровка, подобралась в темноте к чужому подворью, поднялась на возвышение к жернову. Очень пахло горелым и прогорклым, будто сажей из дымохода, но это ее не пугало. Больше страшило ее безмолвие ночи, и она не отваживалась первый раз крутануть жернов — казалось, грохот его будет слышен аж на том конце деревни. Но крутанула, унимая страх, начала молоть и оглядываться. Вокруг было пусто и тихо, только шумели деревья в садике и чернела осадистая ночь.
И тогда ей припомнился давнишний год, когда почти так же, на этом самом жернове, она молола и боялась, боялась и молола. Но тогда она была не одна, во дворе караулил Петрусь. После, когда закончила, молол и он для своих нужд, а возле калитки во дворе стояла она. Мололи тайком, противозаконно, боясь, ведь еще неделю назад сельсоветские начальники обошли деревню и побили все жернова, у кого были. Снимали с нижнего верхний камень, выносили во двор и били об угол фундамента хаты — жернова разваливались на куски. Нужно было сдать зерно государству, а крестьяне не понимали этого, прятали, где кто умел, закапывали в ямах на огороде, в риге или даже в лесу. Сначала начальство искало железным прутом — тыкало в разных местах по хлевам и подворьям, но все спрятанное найти не могло, прибавка от того заготовкам была мизерная. Тогда придумали взяться за дело с другого конца — побить сельские жернова. Рассуждали так: немолотое зерно есть не будут, значит, сдадут государству. Но сосед Петрусь, мало того что был человеком мастеровитым, так еще ж имел и хитрую голову на плечах. Он смастерил специальный железный обруч, которым стянул те разбитые куски жернова и установил их на прежнее место. Можно было молоть, и они ночью, когда выпадала похуже погода, мололи по очереди — Петрусь, а после Серафимка. Или наоборот. Под утро хозяин разъединял обруч и бросал те три куска на прежнее место в крапиву: сельсоветские активисты делали регулярные обходы деревни и проверяли, лежат ли битые жернова там, куда они их бросили. Да Петрусь обхитрил всех, и они были с хлебом.
Головастый был мужик этот Петрусь, пока однажды за ним не приехали ночью… До сих пор у нее осталось в душе неприятное ощущение от тех ночных страхов, как они скрывались тогда, как воры, хотя все то — и жито, и ячмень — было свое, не украденное, а честным трудом выращенное на своих же наделах. Но они действовали наперекор власти, которая, видно ж, имела на то право, когда постановила уничтожить их жернова. Наверно, так было нужно для власти или для государства. Только они с Петрусем чего-то не понимали, если нарушали то постановление. А главное — хотели есть; Серафимке что, она была одна, а у соседа росло трое прожорливых юнцов-подростков, которых нужно было кормить каждое утро…
Молоть ночью без рукоятки было не очень удобно, она натрудила руку шершавой палкой, которую приладила в проушину камня, аж горели ладони. Но за пару часов или больше все ж смолола корытце зерна, и никто ей не помешал. Ночь лежала глухая и темная, шумел ветер в обожженных ветвях садов, и к этому шуму ветра глухим рокотом примешивался звук ее жерновов. На ощупь в темноте она старательно выгребла тепловатую еще муку и через огород побежала домой учинять хлеб.
Теперь она не боялась, ее мужчины избавятся от голода. В первую очередь она сварит затирку.
10. Хлебников
Утром, как только рассвело, невдалеке в траншее послышалось тихое шуршанье, которое ненадолго унялось, и Демидович встревожено раскрыл глаза: кто, Серафима или, может, полицаи?.. Но нет, пришла Серафимка. Как-то оживленно, будто даже весело, поздоровалась, влезая в блиндаж. Перед собой она несла, видно было, завернутый в тряпку чугун, должно быть, с едой, поставила наземь возле входа. И сама осталась стоять на коленях.
— Вот, затирки вам сварила. Вчера муки намолола, так это… затирки. Правда, хлеба еще нет, но замесила хлеб, завтра спеку.
В углу сразу подхватился капитан, сел, заговорил бодро, с какой-то затаенной радостью:
— Молодец! Ай да молодец, Серафимка! Затирка это что, каша?
— Не-а, затирка это… ну… затирка. Сейчас попробуете.
— Ну что ж, ну что ж… Поедим. А то, признаться… Проголодались.
Демидович тоже попробовал приподняться, чтобы хоть сесть, что ли. Чувствовал он себя по-прежнему плохо, может, даже хуже, чем вчера. Ночью у него был жар, била лихорадка, а под утро тело облилось студеным потом, и он, трудно дыша, пластом лежал на плаще.
Рядом живо и молча встрепенулся немец, сел, протирая заспанные глаза. В блиндаж из траншеи из-за спины Серафимки сочился скудный свет облачного утра.
— Беда вот, ложка одна! — посетовала Серафимка. — Может, у вас ести-ка?
— Чего нет, того нет, — сказал капитан.
Демидович, лежа, тоже покрутил головой. Тогда немец, похоже, поняв их затруднение, ловко шаркнул в боковой карман и вытянул оттуда белую ложку, шарнирно соединенную с такой же белой вилкой.
— Биттэ.
Он протянул ее Демидовичу, но тот отрицательно крутнул головой — пускай ест сам. Немец не настаивал, придвинулся ближе к чугунку, но не зачерпывал загустевшую сверху затирку, выжидал. Серафимка захлопотала возле капитана:
— Как же нам?.. Или возьмете сами?
— А ну, а ну… — сказал капитан, одной рукой взяв вложенную в нее деревянную ложку, а другой — слепо ощупывая края чугунка, что стоял у ног. Удобней устроившись рядом, он неуклюже влез ложкой в чугун и, вынимая, пролил затирку из ложки на сапог.
— Ай-яй! — сказала Серафимка.
Немец тоже что-то пробормотал, и Серафимка деликатно взяла из руки бедняги свою ложку, зачерпнула из чугунка и осторожно донесла ее до разинутого из-под бинтов рта.