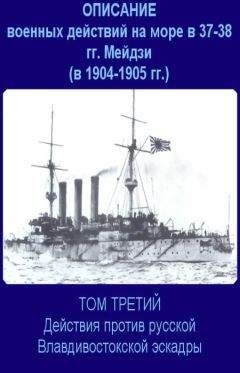Кирилл Левин - Война
— За кошелек попы и тебе многая лета споют.
— В печку, в печку! — ревели представители рот. — Историческая личность… Видали мы их…
И грозное послание Керенского шло в огонь.
— Следующий!
— «Всем, всем, всем!»
— Кто?
— Кишкин какой-то.
— И вовсе не какой-то, а господин министр Кишкин, кадет и член Временного правительства…
— Вот ему, как министру и как члену правительства и как кадету, и нужно было выдавить кишки, чтобы головы нам не морочил.
В три часа ночи пришла телеграмма. Она привела всех нас в уныние.
«ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Город Гатчина взят войсками, верными правительству, и занят без кровопролития. Роты кронштадтцев, семеновцев, измайловцев и моряки сдали беспрекословно оружие и присоединились к войскам правительства.
Министр-председатель Керенский».
В блиндаже сразу стало тихо. Керенский взял Гатчину? Что бы все это означало? Неужели восстание подавлено? Неужели «ударники», юнкера и батальоны смерти, как и в июле, разбили питерских рабочих?
Но вот открылась дверь. Вестовой протискался в блиндаж с новой пачкой телеграмм.
«ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Бывшие министры Коновалов, Кишкин, Терещенко, Малянтович, Никитин и другие арестованы. Керенский бежал. Предписывается всем армейским, корпусным, дивизионным, полковым комитетам принять меры к немедленному аресту Керенского и доставлению его в Петроград.
Военно-революционный комитет».
Вздох облегчения прокатился по блиндажу.
Представители рот, члены полкового комитета начали вслух мечтать — что бы они сделали с незадачливым главковерхом, если бы он, паче чаяния, забрел на территорию особой дивизии.
— Я бы его, ребята, кашеваром сделал.
— Ты что, хочешь всю роту голодной оставить?
— Не дело все вы говорите! Знаете, что я бы с ним сделал?
— Ну? — оживлялись комитетчики.
— Вот-те «ну»… Посадил бы я его в котел, холодной воды налил, а потом стал бы по полешку подкладывать дрова. Подкладывал бы и приговаривал: «Это тебе, Александр Федорович, за Стоход, а это за июльское наступление, а это за Ригу, за Дарданеллы, а это за мужика: обещал ты нас землицей попотчевать, да надул. А это полешко за то, что мир долго не заключал, буржуям продался, нас за нос водил!»
Около недели нам не давали еще покоя телеграммы Временного правительства.
Скоро до нас дошли слухи, что в Двинске окопались и не хотят признавать советской власти батальоны смерти.
В тот же день две роты 2-го батальона, без всяких приглашений, выступили в Двинск. Надо же помочь новой власти их разоружить.
Дал о себе знать и Ушаков. Его отряд был брошен под Гатчину, в тыл Керенскому, засевшему там с казаками генерала Краснова.
Когда стало известно, что Краснов с казаками подбирается к Петрограду, солдат нельзя было уже сдержать. В комитет приходили делегации от рот, команд, батарей и требовали, чтобы их отправили в Питер.
— Нельзя, товарищи, приказа нет. Мы не анархисты. Нам фронт приказано охранять.
— А почему вы знаете, что приказа нет? Может, он есть, да офицеры спрятали его!..
Но комитет был неумолим.
Тогда начался самовольный уход небольших вооруженных групп в Двинск, чтобы оттуда ехать в Петроград. Уговоры, просьбы, угрозы — ничто не помогало!
После бегства офицеров с фронта комитет выставил на всех дорогах посты, которые и перехватывали золотопогонников. Сейчас караулы получили новое задание: задерживать добровольцев.
Так продолжалось до тех пор, пока полк не получил из Петрограда телеграмму с требованием помощи.
«ВСЕМ ПОЛКОВЫМ КОМИТЕТАМ И КОМИССАРАМ ПОЛКОВ
Завоевания революции в опасности. На красный Петроград наступают генерал Краснов с казаками и Керенский с юнкерами. Необходима помощь фронта».
Бойцы уже толпились около комитета, требуя, чтобы их отправили на помощь питерским рабочим. А из батальонов все продолжали поступать новые телефонограммы с требованием включить их в экспедиционный отряд.
Встал вопрос — кого посылать? И простой на первый взгляд вопрос принял довольно-таки запутанный характер. Желающих ехать было так много, что мы буквально не знали, что делать.
После горячих дебатов решили бросить жребий. Отстрогали четыре палочки — по количеству батальонов — три равных и одну подлиннее. Представители батальонов закрывали глаза и, приговаривая: «помоги, боже, длинный жеребок вытянуть», — тянули номер.
Счастливцем оказался 2-й батальон. Это был боевой, заслуженный батальон, в котором больше всего было коммунистов. Две роты этого батальона только что вернулись из Двинска, где разоружали батальон смерти и юнкеров.
В девять часов вечера 2-й батальон выступил по направлению к станции Калкуны.
Провожая батальон, бойцы кричали:
— Питерцам кланяйтесь! Скажите: если надо — мы все пойдем…
Сотни бойцов, заняв возвышенности, земляные горбыли, крыши блиндажей, с затуманенными глазами смотрели на отъезжающих. С какой радостью каждый из нас присоединился бы к уходящим взводам, занял бы место в строю!
На другой день после отъезда 2-го батальона дивизия получила от Военно-революционного комитета — новую телеграмму с требованием о посылке третьего отряда в помощь питерским рабочим.
В тот же день 15-й стрелковый полк нашей бригады в полном боевом составе пешим порядком выступил форсированным маршем в Двинск.
Каждый день гремели радостные марши, каждый день мы кого-нибудь да провожали.
Уехали в полном составе 15-й и 11-й особые полки, унесся конный полк, незадолго до революции прикомандированный к дивизии, умчались пулеметчики, снялось с позиций несколько легких батарей. Из пяти тысяч бойцов в 16-м особом полку осталось на позиции меньше половины. Три тысячи солдат ушли — под Петроград, другие — в Могилев, третьи — в Москву, четвертые — разоружали юнкеров и ударников в Пскове, в Двинске и Луге.
Полки дивизии уменьшались в своем составе. Но никто не жалел об этом. В Петрограде, в Москве решались судьбы революции.
Михаил Слонимский
Поручик Архангельский
I
По туго натянутому голубому небу медленно катился ослепительный шар. Горячий воздух тяжело налег на море, на песок, на сосны. Еще секунда — и все вспыхнет ярким пламенем, треща, как сухие ветки в жарко натопленной печи.
Медленные пары двигались по пляжу — вперед, назад и опять вперед. Голубое, розовое, фиолетовое, оранжевое, желтое, зеленое мелькало перед глазами и расплывалось шариками и полосками в воздухе. И снова — пробор за пробором, бант за бантом — бесконечная вереница гуляющих. Медленные пары сверкали кольцами, серьгами, браслетами, зубами.
Мудрецы, расположившись на скамейках, глубокомысленно вычерчивали на песке палками и зонтиками таинственные заклинания в виде мужских и женских имен и других фигур, смысл которых был недоступен пониманию непосвященного. И если неосторожная сандалия, промелькнув мимо скамьи, стирала архимедову запись, мудрец колдовал на песке снова, углубленный в решение неведомой никому задачи и слепой ко всему, кроме линий, избороздивших послушный песок.
Пригвожденная острыми солнечными лучами к песку, Наташа смотрела на море, на Петербург и думала, что град Китеж, наверное, был такой же из картона вырезанный, с колокольнями и стенами. А если закрыть глаза, — от моря, от неба, от солнца отделяется тогда огромная и прозрачная глубина, прилипает к ресницам, мерно покачивается и проливается в тело. Наташа плыла высоко над землей, в безвоздушном пространстве, где нет ничего — бесконечная голубая пустыня.
Одна в голубой пустыне неслась Наташа. Это только приснился ей странный город на берегу моря, летящий в неизведанные страны. И, может быть, скоро исчезнет город. Достиг предела. Появились в нем странные люди. Хотят все разрушить. Хотят разрушить всех прежних людей, чтобы все стали новыми, ни на что не похожими. А люди и так разрушены — у кого ноги не хватает, у кого руки, а кто душу потерял. Так без души и ходит. А такой — без души — все равно, что пулемет. Убьет сотню и пойдет в ресторан, чаем запьет.
Поручик Архангельский встал со скамейки и подошел к Наташе.
— Наталия Владимировна, танцы начинаются.
Дирижер изгибался, дирижер подпрыгивал, дирижер хотел взлететь на воздух. Не две, а двести рук летали над взъерошенной головой. Победно взвивались фалды черного фрака. Дирижер был влюблен в первую скрипку с лицом из порнографического альбома. Дирижер ненавидел третьего с края виолончелиста, такого маленького в сравнении со своим инструментом, что, казалось, не он играет на виолончели, а виолончель на нем. Больше всех старались литавры. Они звенели так, как будто разбивалась посуда тысячи пансионов. Локти музыкантов сверкали, как пятки убегающих солдат. Все гремело, пело и гудело — литавры, тромбоны, скрипки, виолончели и какие-то совсем неизвестные инструменты, похожие на огромные зубочистки, на которых играли мрачные небритые люди без воротничков.