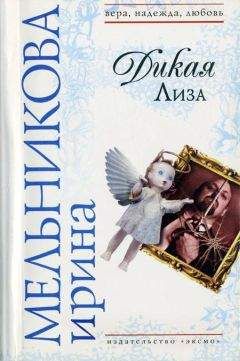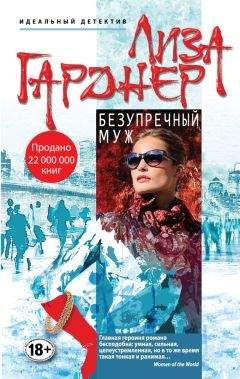Илья Эренбург - Буря
Был обеденный перерыв. Госпожа Авриль, старая хозяйка харчевни, шопотом говорила своим пансионерам, среди которых были и парижанка с детьми, и отставной военный ветеринар из Реймса, и служащий мэрии: «Сегодня я приготовила утку с репой…» Ветеринар рассказывал последние новости: «Десант не скинули…» В гостинице «Милорд» столовались две молоденькие учительницы, присланные на практику, они волновались, что опаздывают в школу, ушли, не кончив обеда. А в кафе «Глоб» старые крестьяне пили кислое легкое вино и рассказывали: «Говорят, что партизаны завалили туннель…»
Часы на церкви показывали два часа десять минут. На колокольне, как на всех колокольнях Франции, красовался маленький петушок. В небе плыли легкие облака. Парикмахер Брюяр мылил щеки краснолицего фермера.
Аптекарь Паско объяснял старухе, что лекарство нужно принимать не до еды, а после. Приехавшая из Лиможа молоденькая машинистка Кутюрье, забыв о том, что хотела достать масло, сидела под деревом и мечтала о счастье. В школах верещали разыгравшиеся дети, и госпожа Руссо говорила: «Тише, ребята, вы так и не поняли правила процентов…» Нотариус Монтазо читал газету. Доктор Дезурто, осмотрев новорожденного, бормотал: «Хорош!..» Тогда подъехала к городу первая машина с немцами; в ней сидел Ганс Ширке. Прочитав надпись «Орадур-сюр-Глан», он подумал: слишком длинное название для такого маленького города… — Он зевнул: мы чертовски устали за эти четыре дня, а впереди вместо отдыха Нормандия…
Немцы приказали всем жителям города собраться на базарной площади. Один старик ответил Гансу:
— Я болен, я не могу встать, я три года лежу…
Ганс засмеялся:
— А может быть, я доктор?..
Он сбросил старика с кровати и разбил ему голову прикладом.
На площади было много народу. Женщины прижимали к себе детей. Дети плакали. Привели несколько стариков и старух: их поддерживали внуки. Здесь были башмачник Совья, швея Зеллер, студентка Рузо, кузнец Реноден, булочник Рено, перчаточница Мерсье, ткач Леблан, колесник Лепара, священник Лорик, плотник Дютре, землекоп Дуар, трубочист Ито, токарь Джианино, кондитер Бюиссон, учительница Кути, портной Бишо, почтальон Буисьер, мельник Пусса, каменщик Лашо, механик Бобрей, водитель Путаро, санитарка Эбра, упаковщик Жуо, счетовод Тессо, маляр Бертелеми, полировщик Тессо, здесь была крестьянская семья Тома, состоявшая из четырнадцати душ. Здесь было все население Орадура. Пришли и дети из двух школ; они смеялись, шалили — немцы сказали им, что на площади будут всех фотографировать. Но, увидев злые лица немцев, дети притихли.
Немцы тем временем оцепили городок; они рыскали по окрестным полям, проверяли, не спрятался ли кто-нибудь в траве. Часы показывали три. Все были в сборе. Эсэсовцы отделили женщин и детей; повели их в церковь.
Мужчин небольшими группами отводили в сараи и в гаражи. Потом немцы приступили к работе: поджигали сараи и гаражи. Всех, кто пытался вырваться из горящих построек, они убивали. Женщин и детей заперли в церкви. Кругом стояли эсэсовцы с пулеметами. Когда подожгли церковь, какая-то женщина, обезумев, выбросила из узкого оконца ребенка. Ширке не прозевал: он подобрал младенца и швырнул его в огонь.
Покончив с людьми, немцы начали выносить из домов все ценное, нашли шелк, ящики с вином, столовое серебро, продовольствие; все это они погрузили на машины. Потом они облили дома горючим и сожгли город. Ротенфюрер Клоц сказал:
— В России лучше горело, там много дерева…
Оберштурмфюрер Швабе посмотрел на часы:
— Без пяти десять, а мы приехали в два. Восемь часов это совсем недолго — все-таки целый город…
Орадура-сюр-Глан больше не было. Из города удалось уйти восемнадцати жителям. Все остальные погибли.
Вино, вывезенное из Орадура, эсэсовцы распили в соседних деревнях; они смеялись, пели солдатские песни, и крестьяне думали, что они справляют победу над союзниками. Ганс Ширке испытывал душевное облегчение: наконец-то он рассчитался с этими «лягушатниками»!.. Вспоминая, как кричала женщина, когда он бросил ребенка в огонь, Ширке ухмылялся: это им за Вальтера, за взорванный мост, за все мои мытарства…
На следующий день Ганс послал отцу письмо, он писал:
«Дорогой отец!
Все последние дни я душою особенно остро ощущаю твою близость. Террористы хотят нанести нам удар в спину, но это не удается. Вчера мы уничтожили настоящее осиное гнездо. Ты можешь быть спокоен — твой сын не сдастся и не раскиснет. От мамы я получил два письма, она, естественно, волнуется и за меня и за тебя. С нетерпением жду известий о войне на Востоке, впечатление, что вам удалось повсюду остановить красных. Целую тебя крепко. Гейль Гитлер!
Твой сын Ганс».Старика, которого убил Ганс Ширке, звали Арманд Клаво, ему было восемьдесят два года, он помнил франко-прусскую войну. Ганс Ширке бросил в огонь Мишель Алиоти, ей еще не было двух месяцев — она родилась четырнадцатого апреля.
Полк «Фюрер» двигался на Пуатье. Ганс Ширке пел свою любимую песню:
Простая фиалка
Цветет на пути,
Сорвать ее жалко
И жалко уйти…
Дорога петлила среди дубового леса. Вдруг затрещали пулеметы; видимо, террористы были на верхушке горы. Эсэсовцы остановились, открыли огонь из орудий. Оберштурмфюрер Швабе сказал:
— Неслыханная наглость, но я думаю…
Никто не узнал, что именно он думал: на дороге разорвался снаряд, осколком был убит оберштурмфюрер. Партизаны теперь стреляли из немецкой противотанковой пушки. Бой длился четыре часа. Потом эсэсовцы повернули назад к Эймутье: надвигалась ночь, ехать лесом было бы неразумно.
На грузовик положили убитых; клали их второпях, и голова Ганса Ширке свешивалась вниз; его рот был приоткрыт; когда грузовик на ухабах подпрыгивал, голова Ганса Ширке тряслась, казалось, что он возмущен и кого-то проклинает.
Деде сказал:
— Вышло как будто неплохо. Что ты думаешь, Медведь?
Воронов рассмеялся:
— Совсем неплохо. Если их будут так встречать дальше, они могут опоздать к представлению…
Воронов думал о каменщике Хосе, который погиб в этом бою. Вчера он сказал Воронову: «Скажи, Медведь, я увижу мою Барселону?..» И еще Воронов подумал: может быть, вернусь в Ленинград и никого не найду из старых друзей?.. А может быть, проще — не вернусь?..
Поднялся ветер: и всю ночь шумели дубы, шумели торжественно, как будто они понимали, что чувствуют люди, как будто эти старые деревья знали, что для таких чувств у людей нет и не может быть слов.
2
«Ты чересчур логичен», — сказал Осипу Лео, когда они встретились в Киеве и поспорили о счастье; Осип тогда удивился: «Как можно быть чересчур логичным?» С детства он любил ясность; может быть, поэтому так трудно далась ему наука сердца, где вместо теорем — головоломки и где исключения опровергают правила. Он и на войне старался соблюсти точность, порядок («аккуратно» дразнил его Минаев). Кадровые командиры пришли на фронт с готовыми представлениями о военных операциях, вначале они терялись от несоответствия между курсами, академией и тем, что увидели. Осип начал войну, плохо разбираясь в военном деле; хаотичность первых месяцев показалась ему естественной. Он научился воевать, воюя; как в каждом самоучке, в нем жило двойственное чувство — гордости тяжело доставшимся умением и благоговения перед наукой. Он восхищался мастерством, смелостью замыслов командования, говорил себе: чувствуется почерк Сталина… Однако еще год назад случайность, непредвиденная мелочь часто мешали проведению операции. Теперь выполнение было достойно идеи.
Такой артиллерийской подготовки Осип еще не видел. Он усмехался: газеты писали, что немцы изобрели самолет-снаряд — пускают на Лондон. Верны себе — ищут психологического эффекта, как будто весь мир это дамочка, готовая упасть в обморок. Наша артиллерия вернее: знают, куда кладут… С восторгом Осип глядел на развороченные доты. Чистая работа! Каждый снаряд спас много наших. Поэтому и наступать легко…
Они шли лесом, болотами; шли по тридцать, по сорок километров в день; душевный подъем помогал преодолевать усталость. Все понимали, что нужно перерезать немцам путь. Впереди шли танки. Их было много. Танкисты, проезжая, шутили. И солдаты думали: теперь фрицы увидят, что это такое, когда у тебя танк позади и танк впереди… Генерал Зыков, смеясь, сказал Осипу:
— Прошу авиацию, а Семушкин отвечает: «Не поспеваем за пехотой — аэродромы отстают…»
Генерал Семушкин прибеднялся: авиация работала замечательно. С первых дней сражения «илы» уничтожили радиостанции противника. Немцы лишились связи, и двенадцать дивизий превратились в множество растерянных офицеров и солдат, которые блуждали по лесам, тщетно разыскивая лазейку.