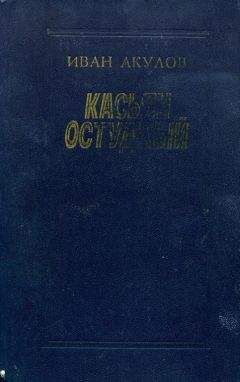Иван Акулов - Крещение
— Ну ты молоток, паря-ваньша, — сибирской шуткой похвалил Охватов бронебойщика и первый раз разглядел его; тому уж за сорок, но он моложав, а глаза синие, чистые, ясные, праведные.
От соседнего окопчика закричал Пряжкин:
— Коля, Тоньку тут… навылет!
«Вот тебе и все, — безотчетно подумал Охватов. — Другого и быть не могло». Он подошел к окопчику, из которого Пряжкин вытаскивал Тоньку, помог положить ее на траву под охлестанным кустом шиповника. У нее был прострелен правый бок, но она жаловалась не на боль в боку, а на то, что у нее сделалась непослушной правая нога. Она пыталась руками подтянуть к себе омертвевшую ногу, изводила и без того слабые силенки, уливаясь беспамятным потом.
— Ты лежи, Тонька, мешаешь же, — ласково покрикивал на Тоньку Пряжкин, неумело перевязывая ее.
— Пряжкин, не то ты делаешь. Ногу же надо поглядеть. Ах какой ты, разуй же! Разуй, говорю!
Охватов стал бережно снимать сапог с ее тяжелой и неживой ноги, но Тонька вдруг закричала пронзительно и скандально:
— Не тронь меня, не тронь, гад несчастный! Уйди от меня, зверь!.. — Она стиснула свое лицо обожженными йодом ладошками и широко открыла вдруг провалившийся рот, задышала будто последним воздухом.
Охватов вспомнил Ольгу Коровину с таким же жестким, некрасивым ртом и тонкими, обтянувшими зубы губами и быстро пошел через дорогу к пехотинцам, уже на ходу крикнув Пряжкину:
— Неси ее в санбат! Позвоночник, видать, задело.
— Нет, нет, я сама, — встрепенулась Тонька. — Я сама, сама. Коля, повернулся же язык про позвоночник-то. Безжалостный…
Через час Охватов снял оборону, и горстка бойцов пошла на восток.
* * *
Ходячие раненые и те, что несли раненых, не могли идти быстро, а головной дозор противника не выпускал их из виду, и бойцы, напрягая силы, рвались к заросшей балке, а там, бог даст, ночь, лес, буераки, деревни, глядишь, и свои вынырнут навстречу: «Стой! Кто идет?» — «Да свои, свои!» И повалятся на землю, бессильные развьючить и рассупонить себя от мешочных лямок и ружейных ремней. Те, что встретят, дадут и табачку, и хлебца, и бинтов, и сон покараулят — словом, всячески уважат, да и как не уважить: из заслона редко возвращаются.
За балкой, которая отняла столько силы, опять поднимался голый увал, и на него боязно было всходить — обнаружишь себя. По дороге стали попадаться раненые, ушедшие после бомбежки и ослабевшие в пути. Подбирали их, пока могли. Но взять всех не было сил, многие оставались, глядя на проходящих с мольбой и упреком.
Возле большой воронки, на глыбах вывернутой сухой земли полусидел солдат Колядкин и вяло отгонял мух от свежей крови, проступавшей через тряпицы на его животе. Он старался не глядеть на проходивших мимо, а по лбу, щекам и русым волосам его высоко подступившей бороды катился пот. Охватов несколько раз оборачивался и видел, что солдат провожает его своими чего-то ждущими глазами.
Немцы на мотоциклах и двух бронетранспортерах насели на группу Охватова у самой железной дороги. Бойцы залегли по кромке неглубокой выемки, и началась огневая дуэль. Немцы воздерживались от активных действий, вероятно не имели задачи ввязываться в затяжной бой. Но и русским нельзя было отрываться от железной дороги: за выемкой начиналось поле, и немцы смели бы их единым духом.
Когда утихала перестрелка, бойцы прислушивались к увалам, ловили дальние звуки и горько переживали то, что запад безмолвствовал.
XVIII
Мощными комбинированными ударами артиллерии, авиации и механизированных войск — главным образом танковыми колоннами — немцы смяли левое крыло Брянского фронта и, ломая ожесточенное сопротивление наших разрозненных частей и подразделений, ринулись на восток, от Сетенева до Рождественского.
Вначале нельзя было определить, куда нацеливают немцы свой главный удар: ни пленных, ни документов в первый день боев не удалось захватить; и оставалось только предполагать, что свое наступление немцы поведут в одном из направлений: через Елец на Москву с глубоким обходом столицы или на Воронеж для захвата Дона.
Но на другой же день стала очевидной угроза прорыва вражеских войск к Воронежу, потому что железная дорога Щигры — Касторная стала осью самых тяжелых, кровопролитных боев. Сомнений больше не оставалось — Дону грозила смертельная опасность.
Командующий Брянским фронтом генерал Голиков с группой командиров штаба отбыл в Воронеж. Старинный город на реке Воронеж жил предчувствием близкой драмы; к нему командующий и начал стягивать резервные войска со всех других участков фронта. Тысячи жителей, кто только мог держать лопату, вместе с солдатами копали траншеи, рвы, эскарпы, устраивали завалы, надолбы, волчьи ямы, баррикадировали улицы, закладывали окна и били в стенах амбразуры.
От беспрерывных вражеских бомбардировок город горел.
На прилегающих железнодорожных станциях, разбитых с воздуха, царила неразбериха. Под фашистские бомбы попали составы с танками. Боевые машины горели на путях, как бидоны с керосином. Наиболее решительные танкисты садились за рычаги машин и прыгали с платформ под откосы, но немногим удавалось уйти из-под атак вражеской авиации.
Горела узловая нефтебаза. Огненные потоки бензина заливали пригород, а отходящие части жгли свои машины, потому что в баках не было ни капли горючего.
Бригады 17-го танкового корпуса, приданные фронту, могли еще на подступах к реке Кшень дать врагу решительное сражение, но, рассыпанные по тылам фронта, вводились в бой раздробленно — побатальонно и даже по-ротно, отчего гибли в мелких стычках, сиротливо горели на полях, по оврагам и проселкам, не в силах отвести ни от себя, ни от пехотных частей сокрушительных ударов крепко собранных в единый кулак танковых дивизий врага.
Левофланговые части и соединения Брянского фронта, можно было сказать, остались без танкового прикрытия, несли большие потери и начали отступление. Большие и малые штабы к этому времени потеряли управление войсками — полки и дивизии дрались обособленно.
* * *
Тридцатого вечером, когда до Ставки дошли тревожные сигналы из-под Воронежа, Сталин вызвал к прямому проводу командующего фронтом Голикова и, не потребовав его доклада обстановки, начал говорить, как всегда, не от своего лица. Сталин вообще не говорил «я решил», «я хочу», «я думаю», тем подчеркивая, что он никогда не принимает единоличных решений. Он говорил «мы решили», «мы хотели бы», «мы думаем». Форма множественности придавала словам Сталина бесспорный авторитет, и редкий собеседник находил мужество возразить коллективному решению, которое Сталин всего лишь высказывает.
— Нас беспокоят две вещи, — с каменным спокойствием сказал Верховный. — Во-первых, слабая обеспеченность вашего фронта по реке Кшень и в районе северо— восточнее Тим. Мы считаемся с этой опасностью, потому что противник может при случае ударить по тылам 40-й армии и окружить наши части. Во-вторых, нас беспокоит слабая обеспеченность вашего фронта южнее города Ливны. Здесь противник может при случае ударить на север и пойти по тылам 13-й армии. В этом районе у вас будет действовать Первый танковый корпус, но во втором эшелоне у него нет сколько-нибудь серьезных сил. Считаете ли вы обе опасности реальными и как вы думаете рассчитаться с ними?
Голиков, мгновенно окинув внутренним оком нарисованную Верховным обстановку, счел удобным — совсем не требовалось доказательств — просить о самом запретном:
— Я прошу отвести войска на вторую оборонительную полосу.
Трубка телефона замолкла, как будто ее положили, но
Голиков знал, что Сталин в решении таких вопросов нетороплив, и ждал.
— Простой, неподготовленный отвод войск на рубеж Быстрин, Архангельское? — с загадочным спокойствием спросил Сталин и опять умолк, по ненадолго: — Простой отвод войск будет опасен, так как рубеж этот не подготовлен и отвод может превратиться в бегство. — Опять наступила пауза, а после нее Сталин заговорил о другом с нотками сдержанного, но явного гнева: — Пока вы будете пренебрегать радиосвязью, у вас не будет никакой связи.
Голиков вытер бритую голову платком и, поняв, что момент для повторения просьбы об отходе упущен, занервничал, начал тыкать скомканным платком в шею, лоб, скулы.
А Сталин вдруг смягчил голос и в сослагательной форме, но категорично пожелал:
— Хорошо бы нанести удар на Горшечное, во фланг противнику, а не против острия его клина, где у немцев сосредоточено более трехсот танков.
Телефон умолк. Кто-то сказал, что разговор окончен. Голиков и без того знал, что Сталин ушел от телефона, сказав все, что не подлежит никакому обсуждению.
Отход был запрещен. Надлежало наращивать удары по врагу. Но как это сделать, если войска фронта выбиты с основных позиций, перемешались, со штабом Ударной армии совсем нет связи?
В этой сложной обстановке Голиков ни на минуту не оставлял работы по укреплению подступов к Воронежу, верно предвидя, что за город в ближайшее время развернется жестокое сражение.
Ночью командующему позвонил начальник Генерального штаба Василевский и говорил с ним совсем сердито, резко обнажая те изъяны штаба фронта, которых боялся сам Голиков:
— Ставка недовольна тем, что у вас танковые войска перестали быть ударной силой и перешли на метод боевых действий пехоты. Катуков, командир Первого танкового корпуса, вместо быстрого уничтожения пехоты противника в течение суток занимается окружением двух полков, а вы, по-видимому, это поощряете; второй пример — с шестнадцатым танковым корпусом, который занят обороной своих флангов. А где танки? Разве так должны действовать танковые соединения? Вам необходимо взять покрепче их в свои руки, ставить им конкретные задачи, присущие танковым корпусам, и категорически требовать их выполнения. И последнее. Верховный разрешил отвести войска на рубеж Ястребовка, Панки.