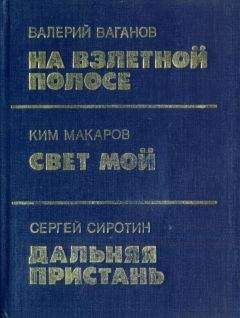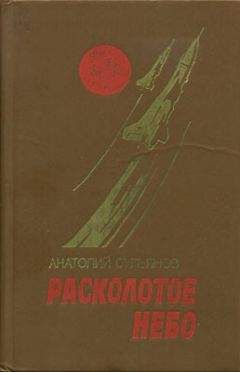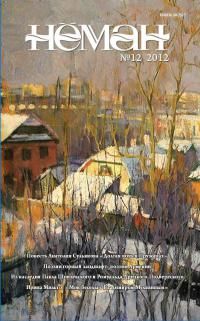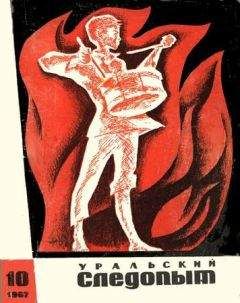Виктор Костевич - Подвиг Севастополя 1942. Готенланд
Как же меня утомили за двадцать с лишним лет эти странности русской жизни. Или, возможно, жизни вообще? Ведь никакой иной, кроме русской, я жизни, по сути, не видел. По крайней мере с девятнадцатого года.
Старшина второй статьи обиделся на меня за евреев. Но я имел в виду совсем другое, прямо противоположное, совсем не то, что захотел услышать он. Я не какой-нибудь антисемит, я интернационалист. Еврей мой лучший друг Иосиф Мерман. Мой начальник по Крымскому фронту товарищ Мехлис – тоже еврей. Суровый и непреклонный, каким и положено быть коммунисту. Никакого слюнтяйства и абстрактного гуманизма. Каждому, кто заслужил, его положенная пуля. И на Крымфронте у нас был порядок, железный порядок, где каждый командир и политработник знал место и помнил о долге. Льву Захаровичу трудно теперь, после разгро… расформирования Крымфронта. Но товарищ Мехлис – нужный товарищ, а нужные товарищи необходимы всегда.
* * *Я продолжал бывать в порту, мой пропуск, выданный самим Оськой Мерманом, позволял. Соленый воздух был полезен для здоровья, крики чаек оказывали благотворное воздействие на нервную систему. Севастопольская эпопея на ней отразилась не самым лучшим образом – я, признаюсь честно, не был человеком из стали. Ночью мне снились нехорошие сны. Неприятных ощущений добавляла рассеянная в воздухе цементная пыль. Изнуряло висевшее в небе солнце. И давили нависавшие над городом горы.
В порту мне становилось лучше. Тянувший с моря ветерок высушивал пот на лице. Я мог часами оставаться на причалах, издалека смотреть на корабли и катера. Теперь причалы были не такими оживленными, как в мае, когда меня переправляли на плацдарм. Почти отсутствовал защитный цвет, преобладали форменки и робы, но и тех стало теперь гораздо меньше. Я напряженно ловил вести из Севастополя, дожидался приходящих оттуда транспортов. Но такие случались редко. Прорваться в СОР не получалось. Путь по морю блокировала авиация, а бухты постоянно обстреливались артиллерией.
Последние увиденные мною суда прибыли вечером второго июля. Те самые тральщики, на одном из которых неделей раньше с плацдарма прибыл я. На маленьких корабликах приплыли сотни людей, почерневших, равнодушных, в изодранной непонятного цвета одежде, мало похожих на красноармейцев, краснофлотцев и тем более на командиров. Выискивая знакомые лица, я заметил среди спускавшихся по сходням какую-то женщину. Шевельнулась мысль – не наша ли Мария или Анна? Однако это была не она. Со спутанными волосами, в засаленной армейской телогрейке, она, качаясь, медленно сошла на пристань, тяжело присела и никак не могла подняться. Мимо нее с поразительным равнодушием прошло сразу несколько человек. Я не выдержал, приблизился и помог ей встать. Бережно поддерживая под руку, отвел ее к пакгаузам.
– Спасибо вам, товарищ капитан, – прошептала она, скользнув глазами по моим петлицам.
Я не стал ее поправлять и вернулся к трапам. Снова помог какой-то женщине, она благодарила, в ответ я кивал головой. В сгущавшихся сумерках мне показалось, что я вижу Зильбера, но подойдя поближе, я понял, что ошибся. И тут же в пареньке, который, поджавши раненую ногу и цепляясь за плечо идущего рядом матроса, прыжками спускался по сходням, я узнал политбойца. Протиснулся наверх, к нему и радостно схватил его за руку. Точно, это был он, почерневший, уставший, в вылинявшей грязной майке, с глубоко запавшими, но знакомыми, знакомыми глазами. Теми самыми, что удивленно таращились на меня, когда однажды после обстрела я излагал ему план воспитательной работы в подразделении и просил его о содействии.
– Каверин… Жив… – прошептал я радостно.
В его глазах опять мелькнуло удивление.
– Как вы там? – тормошил я его, уже сведя на пристань. – Кто еще приехал? Бергман как? Сергеев? Каверин, ну…
Он продолжал глядеть на меня удивленно и непонимающе. Губы слегка подрагивали. Из-под разорванной майки выпирали каркасом ребра.
– Как Зильбер? – спросил я без прежней уверенности.
– Вы меня с кем-то путаете, товарищ старший политрук, – проговорил он медленно. – Моя фамилия Боженко, красноармеец Боженко. Шестьдесят девятый артиллерийский полк.
Я помог ему дойти до пакгауза. Женщина в засаленной телогрейке всё еще оставалась там. Неужели этот корабль последний? В такое я поверить не мог.
* * *Мне не давал покоя младший лейтенант, вернее произошедший между нами инцидент. Старовольский был бесспорно виноват, виноват безмерно, той виной, к которой в условиях фронта, равно как и в условиях тыла, не может быть ни снисхождения, ни пощады. Но почему-то я хотел его простить. Не знаю почему, но я хотел. Не мог представить его валяющимся в луже крови перед взводом красноармейцев – кара, которой он вполне заслуживал. Я не желал его смерти. Не желал даже ареста. Странное чувство. Мучительное и радостное одновременно. Боже, как же я хотел его увидеть. Боже? Бога нет, товарищ старший политрук.
Я так и не понял ведь толком, что тогда между нами случилось. Глупый лейтенантик кричал мне про киевскую ЧК, не уточняя, про какую именно. Кричал много и довольно бессвязно. Обозвал нецензурным словом. Что-то сказал еще, про девятнадцатый год. Иногда я не очень хорошо понимаю по-русски, а там стоял такой грохот и треск, что разобрать всего не получилось.
Лейтенанту не давали покоя события тех героических лет. Оставалось, однако, вопросом, виделись ли они ему такими, какими были они для меня. Мне почему-то думалось, что нет. И еще мне думалось, что он в чем-то винит и обличает меня, лично меня, Мартина Земскиса, старшего политрука, совсем недавно – батальонного комиссара. Как будто я играл тогда какую-то важную роль. Смешно и комично. Потому что в девятнадцатом я был простым солдатиком, куда моложе Старовольского, одним из множества винтиков еще не сложившейся толком системы.
Да, я был тогда простым и скромным защитником революции. Неопытным и юным. Еще совсем недавно я носился по Либаве, выменивая на всякую мелочь хлеб у немецких солдат, чтобы хоть чем-то помочь умирающей матери. А когда ее похоронили, мамин брат, мой дядя, забрал меня в Советскую Россию, где уже целый год трудился в Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Он помог мне устроиться в новом месте и сделаться участником величайшего в истории социального переворота.
Вскоре я очутился в Киеве и, вырвавшись из мрака старой жизни, занялся настоящим делом. Мы кого-то расстреливали – товарищам было виднее, кого надо расстреливать, а кого расстреливать не надо, – потом заставляли живых еще арестантов грузить на подводы трупы и вывозили их ночью в парк. Там были вырыты длинные ямы, куда мы сбрасывали мертвецов, посыпая их сверху известью. Потом забрасывали землей.
Они были очень разными, различного возраста, состояния, звания. Купцы, попы, монахи. Студенты и гимназисты. Офицерье, монархисты и прочая контрреволюция по определению. Спекулянты и спекулянтки, наживавшиеся на временных трудностях юных советских республик. Псевдосоциалисты, черносотенцы, мелкобуржуазные националисты. А также несознательный элемент из трудящихся вроде бы классов, выступивший против нас на стороне оголтелой кровавой реакции.
И мы тоже были разные. Латыши, китайцы, два мадьяра, три поляка, один чех. Само собой, евреи. «Это наша революция», – восторженно шептал, сияя карими глазами, мой друг Иосиф Мерман, храбрый и верный товарищ, с особенным рвением уничтожавший черносотенных «интеллигентов». Русские, конечно, тоже тут встречались. Без них в этой стране, как правило, не обходилось. Были пришлые, из центральных губерний, были и местные – с их дурацким говором, которого я, едва научившийся немножко говорить по-русски, в те времена почти не понимал.
В городе нас ненавидели. Нет, они ничего не смели сказать или сделать, но ненависть словно висела в воздухе. Многие ждали белых. Некоторые – петлюровцев, хотя большинство жителей находило их ничем не лучше нас. Кое-кто надеялся на поляков, однако последние не спешили. Но мы любили ходить в этот город, и ненависть нас не пугала. Было ощущение силы и бесконечной правоты, быть может, немного детское, наивное – но нам оно нравилось.
Некоторых мучили кошмары. Со мной подобного не происходило. На то имелись веские причины. Во-первых, я с детства отличался устойчивой нервной системой – благодаря полученному мною воспитанию, исключавшему свойственные русским и евреям истерические наклонности. Во-вторых, я почти не пил и занимался гимнастикой, ежедневно выполняя определенное количество упражнений, предписанных системой Мюллера. Евреи и русские потихоньку хихикали надо мной, но я не обращал на них внимания. Мне было достаточно, что наши, то есть другие латыши, относились ко мне с уважением, хоть я и был самым младшим во взводе, и даже товарищ Лацис однажды объявил мне благодарность. Кто мог подумать тогда, что спустя каких-то двадцать лет его придется тоже… Увы, со временем люди меняются.