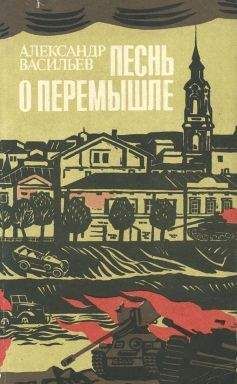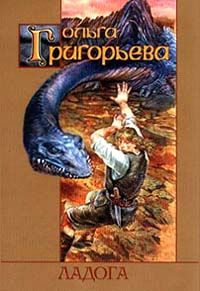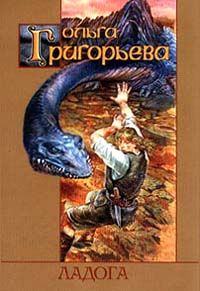Феликс Миронер - Ладога, Ладога...
Знакомые переулки. Перекресток. И, завернув за угол, Петя Сапожников остановился, точно споткнулся. Родной дом, старый петербургский дом на канале был разворочен бомбежкой: остро торчали куски треснувших стен, обнаженные балки, повисший кусок балкона.
Петя долго стоял. Потом двинулся уже совсем иной походкой, не замечая ничего вокруг, машинально поворачивая с улицы на улицу. Останавливался и снова шел. Прохожие оглядывались на него, но таким частым было горе этой весной, что никто не окликал его, не мешал ему.
Остановившись у перил канала, он долго смотрел перед собой. По той стороне капала шла худенькая фигурка в легком пальтишке, с продуктовой сумкой, сделанной из противогазного чехла. Что-то знакомое было в ней. Он подумал, что обознался. Но когда она уже поворачивала за угол, он не удержался и крикнул:
— Лиля!
Фигурка обернулась. Поднялись к лицу и опустились руки.
— Петя! — закричала она.
Они стояли и смотрели друг на друга, разделенные каналом. Потом одновременно побежали вдоль перил к ближайшему мостику. Встретились посередине моста, запыхавшиеся, смятенные. И Лиля, плача, припала к его плечу. Он обнял ее, вздрагивающую, смотрел на нее — узнавал и не узнавал. Худющая, бледная, но вытянулась — возраст взял свое, не девочка, а девушка, и лицо стало взрослей, и волосы, такие же светлые, стали длиннее и прямее.
— Я наш дом увидел и…
— Мне повезло. Я как раз за хлебом пошла…
— А мама?
— Мама за неделю до этого эвакуировалась.
— Где же ты живешь?
— Мне дали целую квартиру — пустую. Сейчас в Ленинграде жилплощади много. — И взяла его за руку. — Идем ко мне, я тебя чаем папою.
Он покачал головой:
— Не могу, мы сейчас на фронт уходим.
— Куда?
— На Карельский.
Она огорчилась, потом улыбнулась:
— Ну это близко. А как товарищи твои, Коля Барочкин?
— Служит, — коротко кивнул Петя.
— Зинаида-то как раз дома была, — тихо сказала Лиля и, помолчав, спросила: — А где Надя?
— Не знаю.
— Как?
— А вот так… — И он сделал движение руками, как бы разводя себя и Надю по разным берегам. — Может, на Волховский фронт попала, может, па Украинский, — вспомнил он слова хмурого шофера и переменил тему: — Вытянулась ты.
— Бегаю много. Город расчищали, теперь семена для огородов готовим… — Она снизу вверх смотрела на него. — Ты ко мне заезжать будешь?
Он взглянул на нее ласково, тихо сказал:
— А кто же еще у меня остался?
— А у меня?
Они стояли па мосту, на канале, а внизу, на поверхности канала, серел рыхлый ноздреватый лед.
Лед под Ленинградскими мостами тронулся. Сперва проплыли мелкие невские льдины. Вода очистилась. А потом по Неве, сталкиваясь и медленно кружась, пошли крупные ледяные глыбы.
Ленинградцы, стоявшие па мостах, кутаясь в весеннюю зябкую одежонку, провожали их глазами.
— Даже температура понизилась.
— Ладожский пошел.
— Нынче не как обычно — позже на десять дней.
Ленинградцы смотрели вниз с мостов, а под ними по Неве плыл не как всегда белоснежный, а весь в колеях и следах автомобильных шип ладожский лед. И на одной льдине стоила поржавевшая кровать, а на другой валялся обод от колеса, на третьей торчал указатель со стрелкой «Техпомощь». А тут в льдину вмерз крылом упавший самолет, а на одной льдине лежал, распластав руки, лицом вниз вмерзший в нее безымянный солдат.
На берегу Ладожского озера, у Вагановского спуска, стоит обелиск в честь Дороги Жизни. Две бетонные дуги взметнулись ввысь и протянулись навстречу друг другу, словно вражеское кольцо, пытающееся охватить Ленинград и разорванное Ладожской ледовой трассой.
В бетонное подножье обелиска навечно впечатаны следы автомобильных шин.
И на плите выбиты стихи:
Потомок, знай! В суровые года,
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда
Отсюда мы вели Дорогу Жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда!