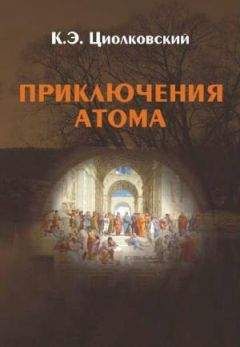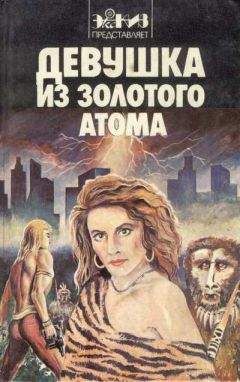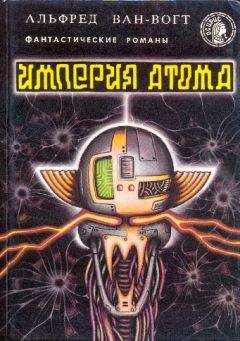Георгий Березко - Сильнее атома
3
Миновало еще несколько дней — последних дней августа; погода — безветренная, знойная — пока не менялась, небо круглые сутки было безоблачным; по ночам выпадала высокая роса, предвещавшая сушь. И лишь в самом конце августа метеосводки стали все чаще напоминать об осени: с запада шло ненастье — сильные ливни с грозами, охватившие территорию в десятки тысяч километров. До начала инспекторской проверки оставалось совсем немного, и генерал Парусов все дни проводил в полках. Без предупреждения, неожиданно, он появлялся на стрельбищах во время тренировок, в артиллерийских парках, на продовольственных складах, в солдатских столовых в час обеда. И с недовольным видом, сухо, стараясь не повышать голоса, но часто срываясь, крича так, что люди замирали вокруг, и еще более распаляясь от своего же крика, "вправлял мозги", как это называлось в дивизии. Отбушевав, он садился в машину и уезжал в другую часть; только по вечерам он попадал в свой штаб и работал там допоздна. Сегодня в его кабинете собрались старшие дивизионные начальники: начальник штаба, начальник политотдела, дивизионный инженер, начальник парашютно-десантной службы. Парусов, вернувшийся из поездки по полкам, вызвал их к себе. Но затем он вынужден был принять необычного посетителя — известного московского драматического актера, давшего концерт в гарнизонном Доме офицеров. Актер ночью сегодня отбывал восвояси и перед отъездом выразил желание познакомиться с начальником гарнизона и проститься; отказать ему было бы неучтиво. Впрочем, и самому Парусову хотелось поближе посмотреть на этого очень популярного в стране человека. Офицеры штаба, сидя тут же в сторонке, на диване, на стульях, расставленных вдоль стен, дожидались конца визита. Беседа затягивалась, и начальник штаба полковник Колокольцев начал уже молча досадовать: она носила слишком отвлеченный характер, в то время как у него имелись к командиру дивизии вполне конкретные текущие дела. — …Тыла в будущей войне, насколько это дано мне понять, вообще не предусматривается. Какой уж тут тыл в эпоху ракетного оружия? Да и ваши парашютисты могут любой самый далекий тыл превратить в театр военных действий, — говорил актер, любезно улыбаясь, точно желая доставить приятное людям, у которых он был в гостях. — Вашим войскам, товарищ генерал, парашютным войскам, в новой войне — не дай бог, грянет! — принадлежит решающая роль. — Там поглядим… Не берусь утверждать столь определенно, — ответил Парусов. — Вам и карты в руки, — несколько льстиво сказал актер. — Мне казалось: пехота будущего — это крылатая пехота. — И он поднял над головой и раскрыл, как бы выпуская птиц, обе ладони. — Бесспорно, конечно, на воздушно-десантные войска будут возложены ответственные задачи. Решать их нам предстоит во взаимодействии с авиацией в первую очередь и с другими родами войск, — сказал Парусов. — Сваливаясь как снег на голову, вы будете наносить удары там, где вас не ждут! — Актер, улыбаясь, оглянулся на безмолвно слушавших его офицеров: он точно задабривал их. Этот пожилой, под пятьдесят лет, человек, в светлом костюме из тонкой, дорогой материи, болезненно-бледный, с вялой, замученной кожей на лице, выглядел необычайно оживленным. Сам он никогда не был солдатом: не пришлось по нездоровью служить; в недавнюю войну он тоже только выступал во фронтовых театральных бригадах. Но на протяжении всей жизни его влекло к армии и к людям армии, которыми он издали любовался, на манер спортивных болельщиков. В глубине души, в тех тайных мечтаниях, что посещают и очень взрослых людей, он тешил себя мыслью, что из него — сложись его судьба иначе — получился бы, наверно, незаурядный военачальник, командующий армией. Он и сюда, к этому генералу-десантнику, пришел, влекомый своей, немного смешной в его возрасте, мальчишеской склонностью. И сейчас он испытывал особенное удовольствие оттого, что обсуждал с профессионалами военного дела важные стратегические и тактические вопросы. — Разрешите еще мне, профану… — увлекшись, продолжал он. — Нанося свои удары, вы сможете во время войны предупреждать атомные удары врага… словно ангелы возмездия, слетающие с неба!.. Да, да, это все необыкновенно! Это целая революция в военном искусстве!.. Полковник Колокольцев отвернулся и стал смотреть в окно. В засиневшем вечернем воздухе был виден обширный, мощенный плитняком двор. На крыльце, заложив руки за спину, стоял дежурный по штабу офицер, стоял и смотрел, запрокинув голову, на первые неяркие звезды, зажегшиеся в небе. Колокольцев подумал о своей жене: должно быть, она уже отправилась в кино, как собиралась, а возможно, и не в кино — кто знает, куда она исчезает по вечерам? — и что две его девочки остались одни в квартире. Он бесшумно вздохнул: эти крохотные, вечно хворающие созданьица были трудной заботой и самой большой радостью его жизни. Затем он снова стал слушать, не близится ли конец визита. — Десантник-парашютист, выбросившись, должен быть готов немедленно вступить в бой, — разъясняя, говорил Парусов. — Учтите еще, что его сведения о противнике бывают, как правило, приблизительны; разведку сил врага десантник ведет в самом бою. Учтите также, что и огневых средств у него в обрез и боеприпасы необходимо экономить железным образом! А враг спешит к месту высадки десанта со всех четырех сторон, подбрасывает резервы, танки, артиллерию. По существу, солдат-десантник начинает бой тогда, когда солдат любого другого рода войск счел бы его проигранным. — Понимаю, да! — отозвался поспешно актер. — Мы обязаны пересмотреть некоторые тактические истины о соотношении огня и маневра. Внезапность появления воздушного десанта и энергия движения должны возместить относительную слабость его огневых средств. Не столько огнем, сколько движением — продуманным и стремительным — воздушный десант решает поставленную перед ним задачу. — Да, да!.. Я все это представляю себе!.. Болезненного вида человек, сидевший перед Парусовым, испытывал почти восторженное чувство. Его молодой, в расцвете лет собеседник со Звездою Героя на груди был, казалось, воплощением всех качеств истинного воина. И уверенная в себе, бестрепетная, натренированная сила угадывалась и в завидном телесном здоровье этого генерала, и в том, как прямо и плотно сидел он в кресле, и в том, как перебирал вещи на столе — папку, карандаши — неспешными и ловкими движениями розовых рук; к тому же он точно и немногословно формулировал свои мысли. Актер наслаждался сейчас так, как наслаждается любитель и знаток бокса, к примеру, оказавшись в обществе чемпиона. А часто встречавшиеся в речи генерала: "мы", "мы должны", "мы обязаны" — как бы объединяли гостя в общей командирской заботе (к его полному удовольствию) со всеми находившимися здесь мастерами своего дела. Ему нравился и начальник штаба дивизии — немногословный, с седыми висками, раздумчивый, кабинетного типа офицер, теоретик, должно быть, и начальник парашютно-десантной службы — толстенький, с округлым брюшком, ласково и тихо улыбавшийся из своего угла в продолжение всего разговора. На эмалевом значке, прикрепленном к гимнастерке этого безмятежного парашютиста, болталась металлическая пластинка с выгравированной на ней четырехзначной цифрой, означавшей, что ее обладатель совершил свыше тысячи прыжков с самолета. Отличное впечатление произвел на актера также начальник политотдела, с которым он обстоятельно уже потолковал, ожидая приема у командира дивизии, — такой же молодой, как и генерал. Начальник политотдела рассказывал московскому гостю об истории дивизии — о ее боевом пути, начавшемся в третий год Отечественной войны; сам он, впрочем, лишь недавно, по окончании академии, был назначен сюда, в воздушно-десантное соединение. И чувствовалось, что ему многое внове здесь — столько живой горячности было в его рассказах об особенностях десантной службы. Между тем Парусов продолжал свою импровизированную лекцию. — В подготовке солдата-десантника мы добиваемся: физической и спортивной закалки — во-первых; совершенного владения оружием и тактикой ближнего боя — во-вторых; безупречной дисциплинированности — в-третьих, — перечислял он. — Можете поменять эти требования местами и на первое поставить дисциплинированность… Солдат-парашютист должен быть воспитан так, чтобы в любую минуту без колебаний выполнить любое приказание своего командира. Если десантнику скомандуют: прыгай в пекло, — он должен прыгнуть в пекло!.. — И добраться со своим автоматом до Вельзевула! — в тон генералу решительно подхватил столичный гость. В эту минуту он сам как бы командовал воздушно-десантной дивизией. Со всей присущей ему легкостью приобщения к чужому строю мыслей и чувств актер и чувствовал и думал сейчас, как этот в высшей степени мужественный и властный военачальник. — Вот-вот! — Генерал усмехнулся. — Но у Вельзевула имеются сегодня водородные бомбы, реактивные самолеты, атомные пушки, управляемые ракеты — пропасть всякой другой смертоубийственной техники! Ад нынче машинизирован… А жить каждому хочется, очень хочется! Главным образом этого в бою и хочется — жить! — Парусов видел, что его гость любуется им, ловит каждое его слово, и это возбуждало его, придавало особенную подвижность мыслям, располагало к откровенному, "острому" разговору. — На смертельную опасность люди реагируют приблизительно одинаково: каждому хочется убраться от нее подальше. И помешать всеобщей реакции страха может только приказ командира. Рефлекс повиновения — вот действительная основа воинской доблести… — Парусов выпрямился на стуле, ему самому понравились эти его слова. — Рефлекс повиновения. Мы должны воспитывать его всеми возможными способами. Актер кивнул: он был совершенно согласен, и все представлялось ему теперь таким простым, раз навсегда решенным. — Рефлекс повиновения! — как эхо, откликнулся он. Колокольцев посмотрел на часы — время в этих теоретических рассуждениях уходило без пользы, а между тем надо было решить с генералом ряд неотложных дел и ехать поскорее домой, укладывать дочек спать. Затем начальник штаба опять устремил взгляд в открытое окно… Капитан-дежурный ушел уже с крыльца; по двору, пересекая пустынную каменную площадку, гулко топая, шагали часовой с автоматом и разводящий: происходила смена караула. Жизнь в штабе текла по нерушимому распорядку, и, будто выверенный механизм, действовал этот круглосуточный "перпетуум мобиле" караульной службы. — На войне приказ и труса делает храбрецом, — сказал Парусов. — Разрешите, Александр Александрович? — прозвучал новый голос, и актер обернулся: слово просил начальник политотдела полковник Лесун. Парусов кинул в сторону Лесуна беглый взгляд. — Прошу! — резковато сказал он. — Я боюсь, — простите, что вмешался в беседу, — боюсь, как бы у нашего гостя… — полковник поискал возможно более деликатное выражение, — не создалось неточного представления о нашей дисциплине, о сущности ее в Советской Армии. У нас дисциплина сознательная. — А я, знаете, реалист закоренелый, — перебил Лесуна генерал. — Сознательность, чувство долга — всё вещи превосходные. Но, как говорится, на сознательность надейся, а спуска не давай! Вот так! Боязнь не выполнить приказ должна подавлять в солдате все другие страхи! Парусов остановился, предоставляя возможность начальнику политотдела продолжать. Но на этот раз Лесун смолчал: спор с Парусовым назревал слишком большой, и потому именно не след было завязывать его сейчас по случайному поводу, при госте. В том, что говорил командир дивизии, имелось много резонного, вытекавшего из каждодневной практики воинского воспитания: ни одна армия, разумеется, не могла бы существовать без дисциплинарного принуждения. И, однако, едва ли не все в этих речах Парусова, а главное, самый тон их, в котором слышались одушевлявшие их эмоции, вызывало в Лесуне протест и возражение. — Война — это тяжелое, жестокое дело, — снова заговорил Парусов, — это бесконечный, огромный труд, это грязь, кровь, много крови. А человек слаб… И, что тут говорить, далеко не всегда честен, элементарно честен… На десяток верных людей обязательно отыщется один порченый. А остальные девять, каждый из этих девяти, на одну десятую — с червоточиной. — Он всем корпусом повернулся к начальнику политотдела. — Или вы придерживаетесь другого мнения? — Пожалуй, все же другого, — сказал Лесун, пожав плечами, точно сожалея о своем несогласии. — Вернее, я бы предложил иначе подойти к вопросу… Я бы предложил взять десяток порченых людей, как вы сказали, Александр Александрович… И я убежден, что по крайней мере девять из них могли бы поступить по-геройски, при соответствующих обстоятельствах, конечно. — Вот оно как! — Парусов, казалось, чрезвычайно удивился. — Ну что же, привычка к повиновению, вошедшая в плоть и кровь, и является таким обстоятельством. Не надо нам отворачиваться от правды, какой бы она ни была неприятной… Есть вещи, которые мы неохотно вспоминаем, но которые нельзя забывать. Склонность к некоторым приятным иллюзиям в сорок первом году обошлась нам довольно дорого. Актер бросил взгляд на начальника политотдела; тот внимательно и спокойно слушал. И было трудно понять, убедил его командир дивизии или он все еще придерживается какой-то другой точки зрения. — В новой войне, в третьей мировой, если она все же грянет, от человека потребуется столько… — Парусов резко оборвал фразу. — Что такое война с применением оружия массового поражения, вы, вероятно, как-то представляете себе, товарищ полковник, — в той мере, в какой это можно представить. И чтобы выстоять в новой войне — выстоять и победить! — надо не ослаблять, а повышать требования к человеку в армии! И не только в армии! Московский гость молчал. С новым, беспокойным интересом смотрел он теперь на генерала, на других офицеров. Очень ясно, точно спохватившись, он подумал, что война, о которой зашла речь, не нечто отдаленное, как взрывы атомной энергии па Солнце, но вполне реальная и ужасная угроза. И что люди, собравшиеся здесь, в этом пустоватом, по-казенному скучно обставленном кабинете с длинным столом для заседаний, покрытым зеленым сукном, с неизбежным графином воды на столе, именно они: молодой, властный генерал и его погруженный в меланхолическое раздумье начальник штаба, сдержанный, деликатный добряк — начальник политотдела и безмятежный, задремавший, казалось, на диване начальник парашютно-десантной службы — первыми в тяжелейший час встретят врага, вооруженного атомом. А потом или в тот же момент нанесут ответный молниеносный, испепеляющий удар — именно они и другие, такие же, как они! Актер не то что усомнился в их мужестве, он встревожился: возможно ли вообще подобное мужество? И его воображению представились несоизмеримые величины: живой, хрупкий, из плоти и крови человек со всеми своими слабостями — и небывалая космическая катастрофа атомной войны, в которой эти офицеры должны будут сразиться и победить. Беспокойство вселяло и то, что они не были вполне согласны друг с другом. Актер не мог решить, кто из них — Парусов или Лесун — более прав. Когда говорил генерал, ему слышался голос самой безжалостной правды жизни. И вместе с тем было что-то в высшей степени истинное и утешительное в словах другого боевого офицера — начальника политотдела. — Мне затруднительно, конечно, вступать в дискуссию… — проговорил актер. — В вопросах героизма, товарищ генерал, у вас есть несравненный личный опыт… — Он повел глазом на золотую звездочку на груди Парусова. — А!.. — Генерал поднял руку, как бы желая сказать: "Не стоит об этом…" — Но в критической обстановке, насколько я знаю — по крайней мере, это происходило в пьесах, где я играл, — да, так вот: в критической обстановке у человека обнаруживаются неведомые ему самому духовные резервы. — В человеке всякое обнаруживается, — быстро ответил Парусов. — Чтобы не обмануться в человеке, не надо его идеализировать: это опасно для человечества. Актер подождал, что возразит полковник Лесун, но тот не отзывался, даже не поднял глаз. Неожиданно, будто пробудившись, заговорил из своего угла начальник парашютно-десантной службы: — Вот на что еще обратите внимание… Позволите, товарищ генерал, разъяснить товарищу народному артисту? Боевая выкладка солдата при десантировании весит много килограммов. Считайте: оружие, боеприпасы, скатка, противогаз, рюкзак, неприкосновенный запас продуктов питания. Выкладка радиста или другого специалиста еще тяжелее… Хотелось бы, конечно, облегчить выкладку солдата-десантника без снижения его боеспособности — изыскать средства. Но покуда этого нет, что прикажете делать? И вы заметьте: приходит к нам в очередной призыв юноша. Выглядит кисло, болезненно, а через полгода в армейских условиях весь так и нальется, возмужает… И толстый полковник умолк, ласково взирая на гостя. Через пять минут актер поднялся — он уезжал отсюда прямо на вокзал — и стал прощаться. Он шумно, велеречиво выражал свою благодарность и долго обеими руками сжимал руки Парусова и Лесуна. На сей раз в этом не было обычной для человека его профессии искусственной преувеличенности чувства, он действительно по-странному, смутно встревожился. "Что их ожидает? — спрашивал он себя, вглядываясь в лица офицеров, которых покидал. — И выдюжат ли они?" О самом себе применительно к военному делу он не думал больше, он как-то сразу ощутил себя очень старым, лет на сто… И грозным, тяжелейшим показалось ему будущее этих людей — если только грянет война.