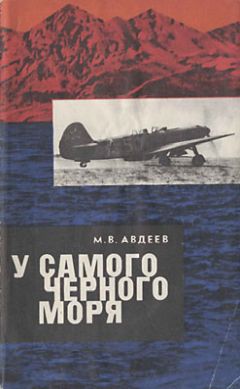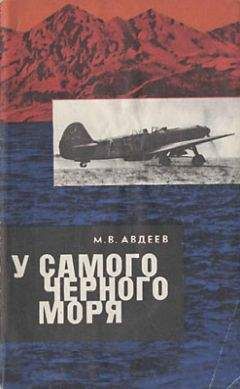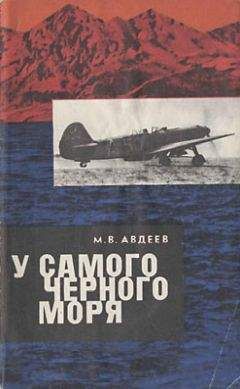Владимир Полуботко - Гауптвахта
— Ничего я не творил! Заткнитесь вы все!
Косов продолжает:
— И рассказывать не хочется. Тошно. И что особенно обидно, ребята: мы ведь с ним вместе призывались, из одного района мы с ним. Его деревня от моей — где-то в двадцати километрах находится. И служим в одном взводе. — Приходя в состояние крайнего волнения, Косов говорит: — И национальность у нас одна — я чуваш, и он чуваш! И ведь люди, глядя на него, могут подумать, что и весь наш народ такой же! А ведь мы, чуваши, совсем не такие! — Поворачивается к Лисицыну и с ненавистью добавляет: — А тебя, мудака, всё равно когда-нибудь повесят за одно место. Нарвёшься ты когда-нибудь на таких людей!
— Не нарвусь!
В камере наступает тягостное молчание. Полуботок долго и пристально изучает мерзкую мордочку, усмехается каким-то своим мыслям, а потом и говорит:
— А что, ребята, давайте-ка мы эту сексуальную крысу назначим старшим по камере? — поочерёдно оглядывает всех присутствующих.
— Идея хорошая! — соглашается Косов.
— Так его, гада! — кричит Бурханов.
— Правильно! — подаёт голос Аркадьев.
— В общем-то можно, — говорит Кац.
А Принцев ничего не говорит — вроде бы как обиделся даже.
Остаётся Злотников. Что скажет он? Все взоры обращены к нему.
— Нет, — говорит он наконец своё слово.
— Почему — нет? — спрашивает Полуботок.
— Старшим по камере останется пограничник. Пусть этот придурок и отдувается за всех, а Лисицына я вам в обиду не дам. Поняли все?
24Двор гарнизонного госпиталя.
Зелёный микроавтобус с красным крестом на боку, врачи в белых халатах и в военных брюках — курят, стоя на крыльце. Губари чистят снег теперь уже здесь. Они устали, но работать-то надо — проклятого снега выпало чересчур много, и кто-то же должен его убирать…
25Какой-то военный склад.
Губари носят тяжести…
26Двор гауптвахты. Вечер.
Несколько арестантов без шинелей, без шапок и без ремней топчутся возле туалета в ожидании своей очереди. Часовой, который вывел их, — тоже без шинели, но в шапке и при карабине, не говоря уже о ремне. Он стоит несколько в стороне и тихо болтает с другим караульщиком — тем, который в шинели и стережёт деревянный грибок с надписью «ТУЛУП».
Кто-то выходит из кабинок туалета, кто-то заходит в них, не закрывая за собою дверей, кто-то бормочет: «Ну вот, скоро спать будем…» Один из стоящих в ожидании своей очереди советует сидящему: «Давай вылазь уже. Не можешь срать — не мучай жопу!» А кто-то с наслаждением смотрит на этот весенний мир и на свободу там, за забором; теплом и уютом светятся окна и окошки родной гауптвахты, и окна окрестных домов — тоже. А вон, кстати, и та самая девушка, что сегодня утром уходила на работу; сейчас она возвращается — поднимается по лестнице, и застеклённая веранда вспыхивает ярким светом, и солдаты видят силуэт девушки за занавескою, и всё кажется прекрасным, невообразимо прекрасным.
— Наконец-то весна пришла! — громко говорит кто-то.
И светятся домашним теплом и покоем окна жилых домов с гардинами, люстрами и с голубыми огоньками телевизоров; и откуда-то доносится музыка; а здесь, на гауптвахте, ласково поблёскивает гильза, которая висит возле такой доброй и отзывчивой надписи: «ТУЛУП»…
И вдруг в эту идиллическую картину мирного быта простых советских губарей вторгается нечто чуждое и инородное — часовой открывает калитку, и патруль втаскивает упирающегося сверхсрочника с погонами старшего сержанта и с мордой, вместо обыкновенного человеческого лица. Причём Мордатый, продолжая мысль, начатую, видимо, где-то вдалеке от гауптвахты, сразу же ставит всех в известность о том, что
И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт.
Меня моё сердце
В тревожную даль зовёт!
Пьяную тушу проталкивают дальше, но она упирается, брыкается, а затем хватает в свои объятья столб с надписью «ТУЛУП» и, продолжая знаменитую «Песню о тревожной молодости», делает следующую заявочку:
Готовься к великой цели,
А слава тебя найдёт!
Его толкают, пихают, отрывают, но он продолжает прерванный концерт и героически хватается и держится за столб своими мощными ручищами.
Надпись «ТУЛУП», между тем, заметно перекашивается и остаётся в таком положении вплоть до самого конца нашего повествования, а, может быть, и дольше.
Но вот к Мордатому подходит Злотников и делает нечто, мягко выражаясь, не входящее в обязанности арестованных, содержащихся на гауптвахте: без малейшего усилия он отрывает Мордатого от столба, заводит ему руки за спину и хорошим пинком посылает вперёд, по направлению к двери гауптвахты. Совершив перелёт, Мордатый падает мордой вниз и лежит без движений и без звуков. Один погон у него почти оторвался и болтается на ниточке, шапка слетела с головы. Солдаты из патруля относятся к полученной незаконной помощи с явным одобрением. Они подхватывают Мордатого и уносят на гауптвахту.
27Камера номер семь. Ночь.
Арестанты спят, а откуда-то из глубины здания доносятся дикие стенания Мордатого:
— Откройте! Отоприте!..
Арестанты шевелятся, просыпаются.
— Ну не даёт спать, — шепчет Полуботок. — Не даёт.
— Вот же дурак, — бормочет Косов.
28Другие камеры гауптвахты.
То там, то здесь просыпаются губари. Некоторые встают со своих «постелей» и кричат в глазки своих дверей:
— Эй, ты там! Паскуда! Заткнись, падла!
— Заглохни!..
— Закрой пасть!..
— Ну, мы тебе ещё покажем!..
29Камера номер три, одиночная.
Мордатый бесится, его рожа перекошена от ненависти. Он орёт, и его кулаки и ноги что есть силы лупят по двери — надёжной, крепкой, советской двери, которую сокрушить может только железо.
— Откройте! Я вас всех сейчас буду убивать! Всех!!! Я вас всех ненавижу!!!
Ненадолго он делает передышку — надо же отдышаться после такого извержения энергии, — и вот, только сейчас до его сознания и слуха явственно доходят крики возмущённых губарей из едва ли не всех камер всей гауптвахты. Сплошное «мать-перемать!»… Трудно описать, какое впечатление это производит на Мордатого, человека властолюбивого, самовлюблённого, капризного. Откровенные выражения солдат приводят его в состояние безграничной ярости. Обезумев, он бросается на дверь, видимо, с целью сокрушить её. Раздаётся грохот. Дверь выдерживает, а сверхсрочник отлетает от неё, и падает на пол, и молотит его кулаками (цементный-то пол!), и кричит:
— Всех ненавижу! Всех буду убивать! Убивать!
Дверь распахивается. Мордатый вскакивает и бросается вон из камеры. И тут — весь хмель пропадает разом: в грудь ему упираются два штыка; Мордатый пятится к стенке, а между тем, появляется ещё и третий штык.
Входит офицер. Сонным, будничным голосом говорит:
— Чего орёшь, скотина пьяная? Всю гауптвахту перебудил. Не двигаться! Проткнём насквозь!
Мордатый стоит прижатый к стене острым железом и не шевелится. А офицер обводит камеру взором. Если не считать людей, то в ней абсолютно пусто.
— Никакой мебели ему не выдавать! Ни «вертолёта», ни табуретки. В туалет не выпускать до утра.
Третьи сутки гауптвахты
Коридор гауптвахты. Утро, часов шесть с минутами.
Губари выносят из своих камер «вертолёты» и «козлы» и затаскивают их в каптёрку.
— Во зверюга! Только под утро успокоился!
— Так и не дал поспать!
— Ну, мразь, получишь ты от нас!
Не сговариваясь, все подходят к камере номер три, по очереди кричат в глазок что-нибудь оскорбительное:
— Гад! Я тебе сделаю плоскостопие черепа!
— Я тебе задницу наизнанку выверну!
Часовые не возражают.
Каждый из кричащих заглядывает в глазок и видит в нём: сверхсрочник — мрачный, тяжёлый — забился в угол и сидит на полу, и исподлобья смотрит свинцовыми, налитыми кровью глазами на дверь, изрыгающую проклятья.
2Двор дома офицеров.
Губари орудуют лопатами, сгребая снег в кучу. Работают неторопливо с частыми перекурами.
Внезапно появляется майор с малиновыми петлицами и в фуражке с малиновым околышем.
— Безобразие! Бардак! Кто позволил?! Снег нужно не сгребать в одну кучу, а наоборот — разбрасывать, чтобы он поскорее растаял на солнце! — Поворачивается к часовому: — А ты куда смотрел? Да я тебя самого за такие дела на гауптвахту упеку!
Часовой с голубыми погонами и карабином лишь испуганно таращит глаза и мычит что-то невнятное.
— Я вам покажу, что значит работать в доме офицеров! — орёт майор. Величавый и ответственный — уходит.
Часовой лепечет губарям:
— Ребята, вы б всё-таки — того… А? Всё-таки дом офицеров…
3Двор дома офицеров.