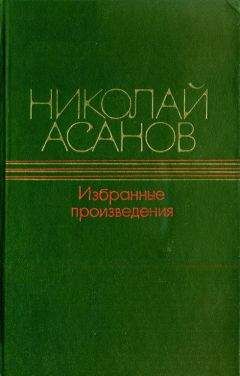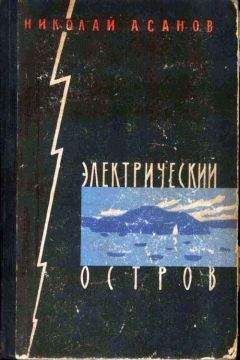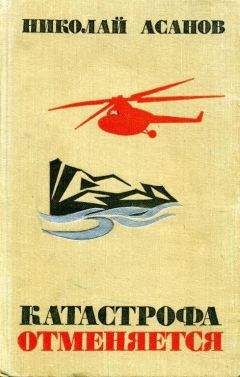Николай Асанов - Огненная дуга
Он внимательно посмотрел на нее. Она осторожно вела машину в потоке вырывавшихся за город состоятельных людей. Менее состоятельные стояли в очередях на автобусы, и каждый держал в руках лыжи, а за спиной — рюкзак с продуктами, а то и собранную подобно парашюту палатку. Весь город уезжал на лыжную прогулку.
День был мягкий, светлый. Магазины закрывались, чтобы вновь открыться в понедельник, и девушки, стайками выбегавшие из дверей, были в брюках, в лыжных свитерах. Так повелось уже давно: конец субботы и все воскресенье— были отданы спорту и загородным прогулкам, и завоевание страны немцами как будто не мешало этому обычаю.
Вита нашла в зеркальце лицо Толубеева, пояснила:
— Утром я увидела на столе у отца наши фотографии. По-видимому, я чем-то выдала себя, иначе он не поручил бы следить за мной. Тогда я сказала, что он должен помочь тебе…
— А ты знаешь, что он завтра увозит тебя в Германию?
— О, это всего на неделю. Я всегда езжу с ним.
— Ты не знаешь, какая программа этой поездки?
— Отца пригласили на какое-то торжество у Круппов. А почему это тебя занимает? — она на мгновение отвела взгляд от осевой линии шоссе и взглянула на Толубеева.
— Пожалуйста, осторожнее! — жалобно сказал он. За эти два года он совсем отвык от шумного городского движения, и ему все казалось, что встречные машины вот-вот раздавят маленький автомобиль «БМВ», который вела Вита. В город шли только мощные грузовики: завозили свежие продукты и товары на будущую неделю.
Вита опять устремила взгляд вперед, но маленькая морщинка меж бровями показывала, что ее что-то заботит.
Поток машин понемногу разбегался в стороны, ехать становилось легче.
— Вольёдя, — жалобно сказала она, — отец сказал, что ты скоро исчезнешь. Это правда?
— Я уже говорил тебе, что я солдат и что никто не освобождал меня от присяги. Я должен воевать вместе с моим народом…
— А как же я?
— После войны я обязательно приеду к тебе…
Про себя он подумал: «Если полковник Кристианс не запретит…», — но говорить этого не стал.
— Я знаю, что у вас трудно выехать за границу, — печально сказала она. И вдруг оживилась: — Но ведь я уже совершеннолетняя, и я могу приехать к тебе…
Он подумал о том, какой выйдет страна из войны, как трудно будет этому избалованному ребенку среди всеобщей разрухи и уничтожения, но спорить не стал. Может быть, она и на самом деле рискнет. А сам он, вернувшись, не будет таким мямлей, чтобы позволять кому-то другому решать за него его собственную жизнь. Он любит, и этого достаточно для того, чтобы отстаивать свое право на счастье.
— Мы будем вместе! — твердо сказал он.
— Что тебе, советскому человеку, нужно здесь? — строго спросила она. — Я ведь вижу, что ты чем-то обеспокоен!
— Я хочу помочь моей стране победить!
— Это называется шпионаж? — спросила она.
— Нет, это называется разведка.
— Против маленькой побежденной Норвегии?
— Против вашего «великого соседа», которому вы так успешно помогаете.
— А что может сделать наша маленькая страна?
— Однако ж твои друзья борются?
— Разве это борьба? Так, игра в «Красный Крест». Борются те, кто начиняет снаряды песком вместо тринитротолуола, кто снабжает авиабомбы пустыми взрывателями.
— Разве ты знаешь таких?
— В газетах их называют саботажниками, а суды Квислинга приговаривают их к расстрелу…
Она прикусила губу и увеличила скорость, словно испугалась своих слов и пыталась убежать от них. Толубеев замолчал.
Шоссе вынырнуло из рощ и перелесков на берег озера. По прибрежному льду, покрытому мягким снегом и исчерченному множеством лыжных следов, двигались толпы лыжников — это были те, кто уже начал свой отдых. Появились виллы и усадьбы, маленькие рестораны, кафе. Возле дверей этих заведений были наставлены десятки лыж, цветные палки стояли шпалерами.
Неожиданно появилась и знакомая усадьба. Ворота были гостеприимно распахнуты.
Вита остановила машину у крыльца, и Толубеев помог ей выгрузить сумки, чемодан, свертки. Вита открыла гараж и завела туда машину.
Никто не встречал их, но в доме было жарко натоплено, в столовой накрыт стол на два куверта. Стояли бутылки вина и бутылки виски, вода, фрукты, в теплящейся слабым газом духовке виднелись ароматно пахнущие кастрюли.
Настроение у Виты опять изменилось, она оживленно запела: «Обедать, обедать, обедать!» — побежала умываться, а когда вышла к столу, Толубеев с восхищенным изумлением увидел ее в вечернем платье.
— Это наш маленький праздник! — воскликнула она и пожалела — Почему ты, Вольёдя, не в смокинге? Хотя, я помню, советские никогда не надевали вечерних костюмов. Почему?
— У нас это просто не принято…
— Суровая простота? — поддразнила она.
— Если хочешь — да. — И процитировал запомнившиеся стихи — «Тяжелую науку мы прошли, как строить города в лесах косматых, водить в морях полярных корабли, навстречу солнцу плыть на стратостатах. Не плача, мертвых хоронили мы, на праздник часто только воду пили, встав на пороге смертоносной тьмы, у господа пощады не просили. Мы только думали богато жить, и лучшим другом нам была надежда, и девушек просили нас любить — какими есть — в рабочей прозодежде…»[1]
— Да, суровая простота! — задумчиво повторила она. — Но, может быть, это лучше нашего суетного и безжалостного мира? — она посмотрела на Толубеева с надеждой.
— Это просто — мой мир! — напомнил он. — И я не хочу другого.
— Значит, я должна принять твою веру, — тихо сказала она. — Как девушка протестантка, полюбив католика, переходит в его веру…
Он промолчал. На протестантку она никак не походила, да и весь уклад этого дома, этот торжественный обед, это прекрасное и, наверно, очень дорогое платье, — все это было в таком противоречии с ее словами, что превращало их в игру.
Но она и сама оборвала разговор, принялась угощать его, ухаживать за ним, изображая любящую жену, наконец-то дождавшуюся мужа и стремящуюся доставить ему максимум удовольствия. И он невольно подчинился и этой милой игре.
И весь уик-энд был чудом: с лыжами, с долгим сидением у камина, с ласковыми словами, с веселым ужином около полуночи.
Утром он проснулся оттого, что она пристально и даже сурово разглядывала его лицо, сидя возле кровати на низеньком стуле. Она была уже одета по-городскому, и он невольно взглянул на часы. Было десять.
— Что ты так смотришь на меня?
— Хочу понять.
Нагнулась, поцеловала долгим поцелуем, выпрямилась, пошла к двери.
— Поторопись к завтраку!
Он торопливо побрился и вышел в столовую.
Сейчас она была задумчивой, немного грустной. Он подумал: «Жалеет о разлуке!»
После завтрака она сказала:
— Ты можешь остаться на весь день. Я позвоню Свенссонам, чтобы они захватили тебя на своей машине.
— Нет, я поеду с тобой.
— Спасибо.
Убрала посуду, приготовила свой чемодан. Владимир изредка ловил ее задумчивые взгляды. Потом присела к пустому столу, положила подбородок на ладони, долго смотрела, вдруг спросила:
— Что тебя интересует в Германии?
— Ты хочешь быть моими глазами?
— Нет, твоей душой! — ответила она слишком серьезно.
Он подумал: больше ты никому не можешь довериться! Любимый человек — это и есть твоя душа. Ты знаешь ее душу, почему же ты полагал, что она не узнает тоску твоей души? Господин Арвид Масон — не столько ее отец, сколько твой противник. А она — твоя порука и твоя защита. Пусть она будет твоими глазами и твоей душой, может быть, ей будет даже легче жить.
— Почему ты молчишь? — спросила она.
— Я думаю. То, о чем я могу попросить тебя, опасно…
— А ты думаешь, что состоять в Сопротивлении не опасно? Я ведь не знала, кому помогаю. Предыдущая группа на нашей станции Скрытой Дороги осенью прошлого года приняла английского летчика и переправила его в Исландию. А через неделю он оказался в Берлине и выдал всех, кто ему помогал. Они получили по десять лет тюремного заключения!
— Надеюсь, что их освободят значительно раньше…
— Ты убежден в этом? — строго спросила она.
— Дорогая моя, за нашими плечами не только наша сила и сплоченность, но и наша история! И разве вы, работающие в Сопротивлении, не видите этого?
— Мне кажется, что многие участники Сопротивления действуют по странному принципу: болеют за слабую команду.
— А ты?
— Я болею за тебя… Но это только поможет мне выполнить твою просьбу!
— Ты уверена, что у меня есть особая просьба?
— Но ведь ты сам сказал, что ты солдат и никто не освобождал тебя от присяги!
— Да.
— Тогда говори.