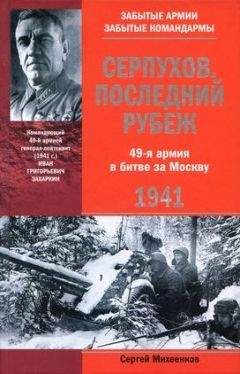Валерий Киселев - Непобежденные. Кровавое лето 1941 года
– Где комбат?
– Капитан Лебедев ранен, я за него, – доложил оторопевший от неожиданной встречи с командиром полка Корнилин.
Майор Фроленков, мужчина подвижный и шумный, одним своим появлением, как показалось Корнилину, разрядил обстановку.
– Ну что, артиллерия работает прекрасно, цели искать не надо. Сколько горит? А, и потом сосчитаем! Никто не прорвался? Справа и слева им не обойти – лес и овраг. Пехота держится… Потери в любом бою, главное – дело сделать! Связь со всеми ротами есть?
– Сейчас только со второй. Рвется то и дело, товарищ майор.
– Это бывает. – И, махнув адъютанту рукой, чтобы следовал за ним, Фроленков ловко вылез из окопчика и побежал на левый фланг батальона, в первую роту. Там, на исполосованном гусеницами поле, стоял и густо дымил легкий танк, разваливший до этого не один окопчик и все же подожженный кем-то из пехотинцев. Метрах в ста от него стояли еще два немецких танка и стреляли с места, перепахивая почти в упор неглубокие окопчики с согнувшимися в них в три погибели оглушенными пехотинцами.
Из-за танков постреливали автоматчики, не давая бойцам поднять головы.
Фроленков, обойдя окопчики на фланге, вскоре вернулся к Корнилину.
– Нет, пожалуй, не поднять. Пока танки не сожжем, не поднять пехоту.
«А какой смысл ее вообще поднимать?» – устало подумал Корнилин.
Но майор Фроленков уже бежал к артиллеристам, стоявшим чуть сзади. Там оставалось всего три орудия, но стреляли они безостановочно, поэтому казалось, что их здесь целая батарея.
Фроленков узнал в быстро ходившем от орудия к орудию полковника Смолина, командира 278-го легкоартиллерийского полка.
– Ребята! Аккуратней стреляйте! Стреляете слишком много, к вечеру без снарядов останемся!
Полковника не слушали, да и не видели в горячке боя, орудия методично выплевывали снаряд за снарядом, и расчеты работали как заведенные.
– Товарищ полковник! – козырнул майор Фроленков. – Надо бы вот те два танка подбить, на правом фланге. Я потом пехоту подниму. Ударим во фланг, и они все здесь побегут как миленькие.
Смолин выслушал, кивнул, сам пошел к орудию, и Фроленков увидел, как он что-то объясняет наводчику.
Прогнать эти танки не удалось, но, постреляв с полчаса, они и сами ушли из боя, а за ними откатились и автоматчики.
Лейтенант Корнилин, чувствуя, как постепенно отходит от грохота голова, и все еще не веря, что они удержались, начал внимательно осматривать поле только что закончившегося боя. Медленно водя биноклем слева направо, он считал танки, стоявшие и дымившие на всю глубину поля. «Тринадцать, неужели столько подбили?» – не верил он, пересчитывая их еще раз. Потом Корнилин заметил, как вышедшие из боя танки, выстраиваясь в походную колонну, начали вытягиваться куда-то еще левее, на соседа. Танков было много, не менее сорока, но проходили они уже в зоне недосягаемости артиллерии, забирая все больше влево.
Ближе к вечеру 13 июля полковник Гришин, переговорив со своим начальником штаба Ямановым, убедился, что нигде в полосе его дивизии немцы не прошли, хотя щели в ее обороне и были. Звуки боя раздавались севернее и южнее, но вечером гул танковых моторов и приглушенные выстрелы стали слышны и в тылу дивизии. Связи с соседом слева не было часов с четырех, сосед справа отошел еще раньше. Посланные на фланги делегаты связи вернулись ни с чем – никого, ни своих войск, ни противника, нет. Но хорошо слышен шум моторов, удаляющийся на Пропойск. Прервалась связь и со штабом 20-го корпуса генерала Еремина.
К вечеру полковник Гришин переехал на командный пункт полка Малинова. Вот уже несколько часов он не знал, что делать дальше. Сначала ждал известий от делегатов связи, посланных к соседям, и связи со штабом корпуса, потом, когда понял, что дивизию обошли с флангов, приказал выводить из боя забравшиеся далеко вперед подразделения батальона майора Московского. Было ясно, что поставленную задачу – сбросить противника в Днепр – дивизия не выполнила и теперь, в создавшейся сложной обстановке, не выполнит. Гришин успокаивал себя, что, по крайней мере, не пропустил противника на своем участке, задержал на полдня, если не больше.
Услышав, как недалеко от блиндажа завели трактор-тягач, Гришин выскочил с пистолетом:
– Стоять! А ну, глуши! Куда собрались?
Чувство неизвестности, очевидно, передалось и бойцам – кто-то готовился к отступлению.
– Лейтенант! – крикнул Гришин пробегавшему неподалеку командиру.
– Лейтенант Степанцев! – козырнул тот.
– Знаете, где батальон Московского? Поторопите его, чтобы быстрее возвращался на исходный.
Степанцев краем глаза увидел в блиндаже полковника Малинова. Вид его, уныло облокотившегося на стол, словно говорил: «Вот влипли…»
Степанцев побежал исполнять приказание, но метров через триста навстречу ему попалась группа командиров, посланная за батальоном раньше. За ними нестройной колонной брели бойцы.
Один из них, из первых рядов, вышел к Степанцеву:
– Товарищ лейтенант, где санчасть?
У бойца, показалось, оторван подбородок – лицо и гимнастерка до самого пояса в крови. Степанцев невольно содрогнулся: «Неужели живой останется?» – и махнул рукой в направлении санчасти.
Замполит полка батальонный комиссар Петр Васильчиков, весь день пробывший в боевых порядках батальонов и несколько раз лично поднимавший бойцов в контратаки, думал, что должен бы устать за этот день – ни разу не присел, но в теле чувствовалась легкость, какая бывает, когда человек делает любимую работу. Вспомнив, что он не побывал в санчасти, Васильчиков поспешил туда. Несколько палаток под соснами было окружено по меньшей мере десятком повозок с ранеными. Васильчиков подошел к медику, делавшему перевязку плеча.
– Как тут у вас дела, Елисеев? – спросил Васильчиков, узнавая в черноглазом молодом медике начальника аптеки полка. – Как вели себя раненые?
Елисеев закончил перевязку и отправил раненого к повозке.
– Первые раненые стали поступать примерно через час после начала боя, – стал рассказывать Елисеев. – Ранения были в основном пулевые, в грудь, в конечности, средней тяжести. И, что интересно, никто даже не стонет, когда перевязываешь. Все были очень возбуждены боем. Один то и дело повторял: «Я, кажется, двоих-троих уложил». Другой говорит, стрелял по пулеметчику, но не знаю, попал ли, обидно. Большинство раненых из приписного состава, кадровых мало. Я ведь их всех в лицо знаю. Было несколько случаев, что после перевязки уходили в свои роты.
Васильчиков, оглядывая повозки с ранеными, мысленно считал, сколько их здесь. Если пятнадцать повозок, на каждой в среднем по четыре человека…
Елисеев поймал его взгляд.
– Часть уже отправили, товарищ комиссар, тяжелораненых, двадцать человек. Автобусом вывезли, еще днем. Да в палатках много лежат, не знаю сколько, доктор Меркурьев обрабатывает. – Елисеев хотел сказать, что за день через санроту полка прошло более ста пятидесяти человек, но подумал, что эта цифра может быть неправильно истолкованной, и промолчал.
– Товарищ комиссар, – подбежал к Васильчикову старший лейтенант Меркулов. – Ищу вас везде.
– Что случилось? – Васильчиков отошел от Елисеева.
– Вот какое дело, – неуверенно начал Меркулов. – Бойцы расстреляли своего командира взвода. Может быть, помните – младший лейтенант Лавренюк.
– Из новеньких, кажется? А за что и как?
– Да когда три часа назад загудело в тылу, к Пропойску, он собрал свой взвод, объявил, что наш полк разбит. Вот ведь подлец! Они, мол, в окружении, можно разбегаться. Ну, бойцы, недолго думая, его к сосне и поставили. Потом пришли ко мне и рассказали.
– И правильно сделали! Плохо, конечно, что самосуд, это они сгоряча, но в целом правильно поступили. Значит, люди не считают, что их полк разбит. Настроение у них боевое, хотя и в окружении, не поддались паникеру. Значит, верят нам. Ну, а что нашелся на полк один трус и подлец – что ж поделаешь: в семье не без урода.
К сожалению, это было не единственное ЧП в полку. В начале боя к гитлеровцам в полном составе перебежала стрелковая рота первого батальона, полностью укомплектованная немцами Поволжья. Перестреляли своих русских командиров взводов, командира роты лейтенанта Устинова и – с белыми платками на штыках – к противнику. Васильчиков вспомнил, сколько раз он требовал от командира полка Малинова расформировать эту национальную роту, но всякий раз получал отказ. Эта рота, как нарочно, оказалась лучшим хором в дивизии: песни о товарище Сталине пели лучше всех. «Куда смотрел особый отдел?» – мысленно ругался Васильчиков. И вспомнил, что еще до отправки на фронт особый отдел и трибунал дивизии, с легкостью и не особенно разбираясь, приговорили к расстрелу двоих только что мобилизованных молодых баптистов, отказавшихся брать в руки оружие, и лейтенанта, на сутки опоздавшего из отпуска.