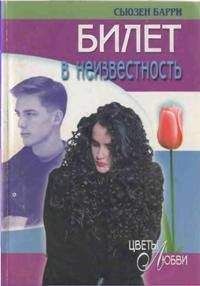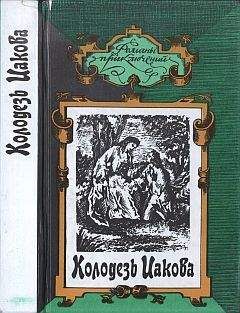Виктор Некрасов - В окопах Сталинграда
Мы прощаемся и уходим. Валега, вероятно, уже ворчит — все остыло.
У входа в вокзал квадратный черный громкоговоритель простужено хрипит:
— Граждане, в городе объявлена воздушная тревога. Внимание, граждане, в городе объявлена…
Последние дни по три-четыре раза в день объявляют тревоги. На них никто уже не обращает внимания. Постреляют, постреляют, самолета так и не увидишь, и дадут отбой.
Валега встречает нас насупленным взглядом исподлобья.
— Вы же знаете, что у нас духовки нет. Два раза уже разогревал. Картошка вся обмякла, и борщ совсем… — Он безнадежно машет рукой, разматывает борщ, завернутый в шинель. Где-то за вокзалом начинают хлопать зенитки.
Борщ действительно замечательный. Мясной, со сметаной. И откуда-то даже тарелки — красивые, с розовыми цветочками.
— Совсем как в ресторане, — смеется Игорь, — еще бы подставки под ножи и треугольные салфеточки в стакане.
И вдруг все летит. Тарелки, ложки, стекла, висящий на стене репродуктор…
Что за черт!
Из-за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, плывут самолеты. Я еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на разных высотах. Все небо усеяно плевками зениток.
Мы стоим на балконе и смотрим в небо. Я, Игорь, Валега, Седых. Невозможно оторваться.
Немцы летят прямо на нас. Они летят треугольником, как перелетные гуси. Летят низко — видны желтые концы крыльев, обведенные белым кресты, шасси, точно выпущенные когти. Десять… двенадцать… пятнадцать… восемнадцать штук… Выстраиваются в цепочку. Как раз против нас. Ведущий переворачивается через крыло колесами вверх. Входит в пике. Я не свожу с него глаз. У него красные колеса и красная головка мотора. Включает сирену. Из-под крыльев вываливаются черные точки. Одна… две… три… четыре… десять… двенадцать… Последняя белая и большая. Я закрываю глаза, вцепляюсь в перила. Это инстинктивно. Нету земли, чтобы в нее врыться. А что-то надо. Слышно, как «певун» выходит из пике. Потом ничего нельзя уже разобрать.
Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю глаза. Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то сплошным и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот. Я держусь за перила. Кто-то сжимает мне руку, точно тисками, выше локтя. Лицо Валеги остановившееся, точно при вспышке молнии. Белое, с круглыми глазами и открытым ртом. Исчезает.
Сколько это длится? Час, два или пятнадцать минут? Ни времени, ни пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего.
Перила исчезают. Я лежу на чем-то мягком, теплом и неудобном. Оно движется подо мной. Я цепляюсь за него руками. Оно ползет.
Мысли нет. Мозг выключился. Остается только инстинкт — животное желание жизни и ожидание. Даже не ожидание, а какое-то — скорей бы, скорей, что угодно, только скорей.
Потом мы сидим на кровати и курим. Как это произошло, я уже не помню. Кругом пыль, точно туман. Пахнет толом. На зубах, в ушах, за шиворотом везде песок. На полу осколки тарелок, лужи борща, капустные листья, кусок мяса. Глыба асфальта посреди комнаты. Стекла выбиты все до одного. Шея болит, точно по ней кто-то палкой ударил.
Мы сидим и курим. Я вижу, как дрожат пальцы у Валеги. У меня, вероятно, тоже. Седых потирает ногу.
У Игоря большой синяк на лбу. Пытается улыбнуться.
Выхожу на балкон. Вокзал горит. Домик правее вокзала горит. Там, кажется, была редакция какая-то или политотдел. Не помню уже. Левее, в сторону элеватора, сплошное зарево. На площади пусто. Несколько воронок с развороченным асфальтом. За фонтаном лежит кто-то. Брошенная повозка, покосившаяся, точно на задние лапы присела. Бьется лошадь. У нее распорот живот и кишки розовым студнем разбросаны по асфальту. Дым становится все гуще и чернее, сплошной пеленой плывет над площадью.
— Кушать будете? — спрашивает Валега. Голос у него тихий, не его, срывающийся.
Я не знаю, хочу ли я есть, но говорю — буду. Мы едим холодную картошку прямо со сковороды. Игорь сидит против меня. Лицо его серо от пыли, точно статуя. Синяк расплылся по всему лбу ядовито-фиолетовый.
— Ну ее… — машет рукой, — не лезет в глотку… — и выходит на балкон.
Пенгаунис и Шапиро приходят бледные и запыленные. Бомбежка застала их на центральной площади. Пересидели в щели. Бомбы попали в Дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. Южная часть города вся горит. Попало в машину с боеприпасами, и они до сих пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало. Из кино выходила. Там человек двадцать погибло. Как раз сеанс кончился.
Я спрашиваю, который час. Пенгаунис смотрит на часы. Без четверти девять. Из библиотеки мы пришли около семи. Значит, бомбежка длилась почти два часа.
Игорь возвращается с балкона:
— А где наш капитан живет?
Никто не знает. Положение идиотское. Может быть, к Гольдштабу сходить? Хотя он знает наш адрес и сообщит, если надо. Нет. Лучше все-таки сходить. Невозможно сидеть. Туда не больше получаса ходьбы.
На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все валится. Останавливаются, перекладывают, молча, без ругани, с расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, вылезает из домов, расползается по улицам. Хрустит стекло под ногами. Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.
— Господи боже… Пресвятая богородица…
Узел сползает. Платок свалился с головы и волочится по земле.
На углу Гоголевской громадная воронка — целый дом влезет. Бойцы убирают глыбы асфальта, разбросанные во все стороны. Воздух дрожит от пронзительного, раздирающего уши вопля пожарных машин.
Люди бегут, бегут, бегут…
Дым расползается по всему городу, заслоняет небо, щиплет глаза, першит в горле. Длинные желтые языки пламени вырываются из окон, лижут стены углового дома. Пожарные разматывают шланги.
В здание нас не пускают. Мы долго звоним из будки Гольдштабу. Никак не можем дозвониться. Мешает чей-то разговор. Что-то хрипит и хлюпает. Голос Гольдштаба доносится откуда-то издалека, точно с того света.
— Идите домой… ждите.
Мы идем домой. Люди все бегут, бегут, бегут… Из нижней квартиры вытаскивают большой зеркальный шкаф.
Пытаемся заснуть. Ворочаемся с боку на бок. Почему-то жестко и неудобно. Света нет. Радио молчит. Всю ночь бушуют пожары.
14
Капитан является на рассвете. Дергает носом. Через пять минут будет полуторка, поедем на Тракторный.
— На Тракторный? Зачем?
— Не знаю. Приказано.
— Кто приказал?
— Гольдштаб. Он тоже выезжает на Тракторный.
— А что там делать?
— Я сказал, что не знаю. Собирайте, говорит, свою группу и ждите машину.
— И больше ничего?
— Ничего. Вышел на минутку из кабинета начальника, сказал про машину и обратно ушел.
— А так что слышно?
Капитан пожимает плечами — разве поймешь?..
Седых отзывает меня в сторону.
— Там склад на вокзале разбомбило. Может, сходить?
— Я те схожу!
— Водка, говорят, есть.
— Ты слышал, что я тебе сказал?
— Слышал.
— Иди складывай свои манатки.
Я сворачиваю рулоны синьки и всовываю их в сумку. Шапиро прислушивается.
— Опять летят…
Тишина. Валега с ножом в одной руке, с консервной банкой в другой. Низкий, далекий еще, знакомый гул моторов. Летит много.
— Надо в подвал идти, — дергает носом капитан и направляется к дверям. В дверях сталкивается с человеком в кожанке, потным и красным.
— Вы Самойленко? — Голос хриплый, задыхающийся.
— Я…
— Где ваши люди? Я с машиной. Давайте скорей. Гудят уже.
Валега с ножом и банкой в руках вопросительно смотрит на меня.
— Давай на машину;.. Слыхал?
Когда мы влезаем в машину, сыплются первые бомбы. Где-то сзади, в железнодорожном поселке. Самолеты летят над головой, медленно заворачивают вправо.
Я снимаю пилотку, чтоб ее не сорвало ветром. Выезжаем за город. Теперь хорошо видно, как самолеты пикируют на вокзал, центр, пристань. Над городом сплошное облако пыли. Откуда-то с реки подымается высокий, расползающийся кверху, как гриб, столб густого, черного дыма. Должно быть, горят нефтебаки.
Дорога забита людьми. Куда-то идут, идут, идут, оборачиваясь на город, полуголые, в шубах, закопченные.
Гольдштаб сидит в подвале. Народу — не протиснуться. Ящики, тюки, сваленные шинели. Кто-то кричит по телефону хриплым голосом. Гольдштаб бледен, небрит, прищурившись, смотрит на нас, не узнает.
— Вы к кому?
— К вам. Саперы.
— Ага… Саперы. Чудесно! Кладите шинели сюда, на ящик. На машине приехали? Хорошо. Давайте сюда.