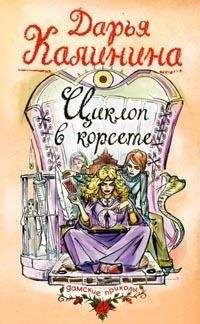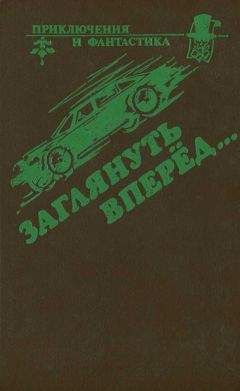Константин Симонов - Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)
Война не кладбище, а дорога, на которой почти всегда и всем некогда. Но и свои штатные могильщики есть на этой дороге – похоронные команды; и свои похоронные книги – ведомости потерь, которые пишут в каждом полку ПНШ-4 – четвертые помощники начальников штабов; среди других обязанностей лежит на них и эта – писать, когда убили, и где зарыли, и откуда родом, кому и куда посылать похоронку. Могилы общие, но в каждой, рядом с другими, чужими, – лежит чей-то собственный, и все чужие, лежащие рядом с ним, тоже для кого-то собственные. Это и есть война в той самой последней и долгой своей тяжести, которая потому и страшней всего, что она долгая. Войну еще, может, удастся укоротить и этим спасти на ней еще чьи-то жизни. А эту, уже легшую в землю, тяжесть памяти уже не укоротишь – ни письмом замполита, ни посмертной наградой, ничем.
Мысль была простая, вроде бы даже само собой разумеющаяся, но в своей безвыходной простоте она чуть ли не впервые за войну пришла Лопатину в голову.
Вспомнив о посмертных наградах, он подумал об ордене Отечественной войны, переправленном командующим с первой на вторую степень, о котором хлопотал для Гурского их бывший редактор. А за что он ему – этот орден? За то, что его убили? Но если так, то в этом нет здравого смысла, а если нет здравого смысла, то нет и того высшего смысла, про который иногда говорят, напрасно противопоставляя один другому. А если в такой посмертной награде есть здравый смысл, то, значит, она не за то, что убили, а за то, что сделал перед этим, за то, что, прежде чем писать, хотел не с чужих слов, а сам, своими подошвами пощупать эту первую версту Восточной Пруссии. И если, жалея мертвого, говорить потом про него, зачем полез туда, и считать, что мог обойтись и без этого, – если б это было верно, то мало смысла и в посмертной награде ему, и даже не мало, а вовсе нет смысла – ни здравого, ни высшего, никакого.
Уже несколько раз за дорогу Лопатин собирался достать из полевой сумки засунутую туда тетрадь с записями Гурского, но всякий раз не мог заставить себя это сделать и только теперь расстегнул сумку.
– Едем верно, все в порядке, карту смотреть не надо? – спросил он у Василия Ивановича, впервые заметив в тетради Гурского краешек засунутой туда карты.
– Если хотите – смотрите, а я два конца по ней сделал, мне не надо, – сказал Василий Иванович.
Тетрадь была знакомая, одна из тех двадцати толстых общих, черных клеенчатых, в клетку, тетрадей, которые он, словно угадав еще до войны всю ее будущую длину, в июне сорок первого купил на Арбате в писчебумажном магазине около тогда еще не разбитого бомбой Вахтанговского театра. Пятнадцать этих тетрадей было уже исписано; эту, шестнадцатую, когда он после госпиталя снова стал жить у себя на квартире, увидев у него на столе, забрал Гурский, семнадцатая, не дописанная до конца, лежала у Ники, а три чистых, последних, оставались дома. Так и лежали там на столе, под рукой.
В эту поездку отправился, не взяв тетради. Хотел зайти взять и даже собирался объяснить это Нике, но не зашел и не взял. Да, хорошо бы, если б этих трех последних тетрадей хватило до конца войны.
Подумал так, словно одно было связано с другим, и, усмехнувшись нелепости этой мысли, наконец заставил себя открыть тетрадь. Сначала пробежал глазами первые десять страниц с очень короткими записями – в одну-две строки, судя по названиям мест, это были заметки для памяти, по которым Гурский диктовал стенографисткам свои корреспонденции с Карельского перешейка. Потом шло несколько неизвестно для чего оставленных чистых страниц, и сразу без всяких предварительных заметок начинался плотно и неразборчиво написанный текст того, что Гурский собирался передать по телеграфу, вернувшись с того берега Шешупы.
Это была одна из тех корреспонденции, весь смысл которых – в собственном присутствии пишущего при всем происходящем. Никаких соблазнительных преувеличений или смещений во времени не было. Наоборот, говорилось, как кругом тихо, даже неожиданна тихо, хотя первые солдаты переправились на тот берег, в Восточную Пруссию, еще сутки назад. И только после этого начинались записи в настоящем времени: «Подходим к берегу, сидим вместе с капитаном на самом краю, тихонько зачерпываем руками довольно холодную для августа воду; сидим и ждем, когда возвратится с того берега, из Пруссии, надувной плотик, на котором старшина повез туда термоса, сидим и слушаем все приближающиеся тихие шлепки весла».
И так до конца, до записей разговоров с солдатами, сделанных на том берегу, и до самой последней фразы: «Записываю их мысли, откладывая на потом собственные. Капитан торопит с обратной переправой, если не собираюсь остаться тут еще на сутки. Говорит, что в светлое время переправляться никому не разрешено…»
Капитан торопит… Никого он уже больше не торопит, этот капитан…
Лопатин вынул из тетради карту; вдоль тонкого синего изгиба реки шли крупные черные точки и толстые тире государственной границы с Германией; недалеко от изгиба Гурский поставил карандашом крестик, обозначив им местопребывание командного пункта полка. На обороте карты, тоже карандашом, было написано: «Появление перед Берлином неприятельской армии невозможно. Мольтке-младший, 1914 год».
Наверное, Гурскому по дороге к границе пришла на память эта цитата для будущей корреспонденции…
Сверять карту с дорогой Лопатин не стал, решив положиться на Василия Ивановича. Сунул тетрадь и карту в полевую сумку и несколько минут ехал закрыв глаза, чтоб отдохнули от чтения на ходу.
А когда снова открыл глаза и надел очки, увидел по сторонам дороги не то, что до этого выбирал глаз, а обыкновенную здешнюю природу: поля и пригорки; кое-где обнажившийся на склонах песок делал эти пригорки похожими на дюны; вдали виднелись перелески и небольшие хутора в несколько построек, на полях лежали вывернутые из песчаной почвы некрупные валуны.
Потом впереди, на фоне росшего на гребне одного из пригорков сосняка, увидел большой каменный дом с длинным кирпичным коровником и таким же длинным рубленым сараем.
– Вот и доехали, – сказал Василий Иванович, сворачивая к дому. Но Лопатин остановил его, заметив в стороне, справа, чуть выше по склону, три молодых сосны, под ними белую пирамидку могилы, а над ней что-то непонятно, ослепительно блестевшее в лучах заходившего солнца.
– Она? – спросил Лопатин.
– Она.
Пирамидка была сложена из старого кирпича – наверное, разобрали для этого какую-нибудь разбитую снарядами стену, – но этот ломаный, поковырянный кирпич снизу и доверху был густо и чисто побелен. В пирамидку был вмазан штык острием вверх, а к нему обнаженным от изоляции медным проводом прикреплена вырезанная из разогнутой снарядной гильзы звезда. Она-то и отсвечивала сейчас на солнце так сильно, что остановила их еще издали.
На пирамидке, под добытой где-то пластинкой плексигласа, на хорошо отшкуренном куске фанеры густыми лиловыми чернилами, по-писарски четко, была выведена надпись: «Вечная память погибшим в боях за Родину!» И под ней фамилии. Рядом с первой – гвардии капитана Салимова Ю. С. – маленькая, плохо видная под мутным, поцарапанным плексигласом, фотография капитана в фуражке, с гвардейским знаком и тремя орденами на гимнастерке. Остальные фамилии без фотографий: капитан Гурский Б. А., военный корреспондент «Красной звезды»; гвардии старший сержант Лаврик С. С.; гвардии рядовой Самохин С. А.
Вот и всё. Одна на четверых война, одна надпись, одна могила.
«Значит, вот сюда она и приедет, если новый редактор сдержит свое обещание», – подумал Лопатин о матери Гурского и услышал у себя за спиной голос Василия Ивановича:
– Товарищ майор!
Это значило, что к ним подошел кто-то еще. Товарищем майором Василий Иванович называл его только при посторонних
Лопатин повернулся и увидел Велихова, стоявшего с непокрытой головой, держа фуражку в руке.
Велихов неуверенно потянулся и обнял его, сказав что-то про свое сочувствие, Лопатин толком не расслышал – что, потому что вдруг сжало горло от всего, вместе взятого: от смерти Гурского, от молодости Велихова, от резанувшего по сердцу воспоминания о сорок первом годе и от этого внезапного объятия, про которые Гурский зло шутил, что, когда мужские губы касаются его небритых щек, ему кажется, что он уже отдал жизнь за родину и лежит в гробу.
Всё так. И отдал, и лежит, а ты стоишь и молчишь и не можешь проглотить комка в горле.
– Я здесь только второй раз в жизни увидел его, – не глядя на Велихова, услышал Лопатин его голос. – Но мне ваша Нина говорила о нем, что вы его очень любите, и вообще высоко о нем отзывалась, как о самом лучшем вашем друге.
«Нина… высоко отзывалась…» – все это было так странно и далеко от случившегося здесь, что Лопатин в первую секунду не понял. Ошалело подумал: какая Нина? Словно речь шла не о его собственной дочери.