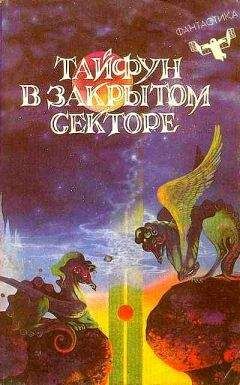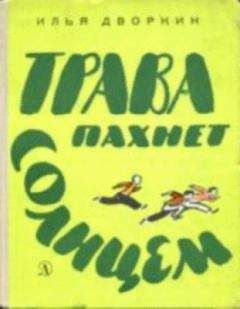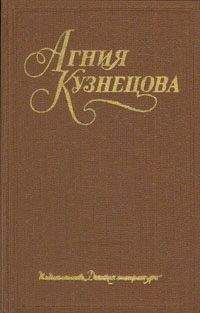Анатолий Маркуша - Нет
Как он не любил дней, которые начинались с разговоров! Но начальство требовало на беседу, и идти пришлось.
Виктор Михайлович постучал в дверь и, услышав короткое, резкое «да!», перешагнул порог. Поклонился и быстро оценил обстановку: как всегда, в комнате не было ничего лишнего. На широкой полке поблескивали штук пятнадцать великолепно исполненных моделей разных самолетов. На приставном столике выровнялись в ряд пять разноцветных телефонов. Со стены, из строгой стальной рамки ободряюще улыбался Чкалов. А начлет глядел хмуро. Хабаров давно уже в мельчайших подробностях изучил этого человека. Теперь он ожидал, в каком ключе начнется разговор — официальном, полуофициальном или дружеском. Возможен был любой из вариантов. Больше всего Хабаров не любил официальных объяснений.
— Пришел. Прекрасно. Садись и рассказывай, Виктор Михайлович, что там у вас с Александровым произошло?
«Ясно — разговор полуофициальный», — подумал Хабаров и тоже спросил:
— А что, собственно, рассказывать — про существо или про сопутствующие эмоции: он сказал, я сказал, он сказал?..
— Прежде всего давай существо.
— Ясно. Так вот: в заключении по Александровским универсальным авиагоризонтам я написал с полной определенностью: прибор — дерьмо. Разумеется, термин был менее решительный, но суть именно такая. Компоновка удачная, точность достаточно высокая и надежность тоже на уровне. Но я считал и считаю: в конструкции допущена принципиальная нелепость. На шкале, расположенной перед летчиком, помещен силуэт неподвижного самолетика, вокруг которого движется небесная сфера. Теоретически все как будто правильно: или вагон перемещается вдоль телеграфных столбов, или мимо окна вагона бегут те же самые столбики — один черт. Про бегущие столбики даже в художественной литературе пишут. Но я возражаю против столь свободного использования принципа обратимости движения в авиагоризонте. Сначала возражал письменно, в заключении, вчера возражал устно. Все.
— Все? Ну нет, по-моему, это еще только начало. Как ты возражал, Виктор Михайлович? — спросил Кравцов, не глядя в лицо Хабарову.
— Резко.
— А точнее?
— Я сказал примерно так: меня удивляет, что светлые ученые головы выдвинули такую темную идею. Летать с этим прибором можно, только насилуя психику, подавляя установившиеся привычки, постоянно действуя против самого себя.
— И тут тебя, перебил Александров?
— Перебил. Но здесь существо кончается, и начинаются голые эмоции. Про эмоции тоже рассказывать? Пожалуйста. Видимо, обидевшись за «темную идею», Александров вдруг заорал, что ему сто раз наплевать на так называемую психику и на все прочие нежности летного состава. Он вполне резонно заметил, что раз зайца можно научить обращаться с барабаном, то уж летчику сам бог велел приспосабливаться и к более тонким инструментам. Тогда я попросил профессора не орать — это же неинтеллигентно, не правда ли? — а сам попробовал пояснить собранию, в чем разница между дрессированным зайцем и летчиком средней квалификации. Но, к сожалению, не успел. Александров вмешался и почему-то стал напоминать мне, что он состоит в высоком звании генерал-полковника инженерной службы и так далее в таком роде. Я этого не оспаривал, но честно попытался ему внушить, что в данном случае ни его звание, ни его должность к делу отношения не имеют. Он снова не согласился с моими доводами и потребовал, чтобы мы — Болдин и я — незамедлительно покинули зал заседаний…
Начлет глубоко вздохнул. Вытащил из помятой пачки «Беломора» папиросу и закурил. Только теперь он посмотрел прямо в лицо Хабарова.
— Неужели тебе не надоело еще демонстрировать характер в инстанциях? Слава богу, не мальчик уже. Бит больше чем достаточно, а тебе все мало? Не согласен с Александровым — понимаю. Написал соответствующее заключение: — твое святое право, понимаю. Но для чего постоянно лезть на рожон? Или Ты собираешься перевоспитать Александрова? Переделать его? Ну, скажи мне по-человечески: чего ты добился своим очередным цирком? Сегодня с утра Александров звонил начальнику Центра и требовал, чтобы мы воздействовали на тебя в административном и общественном порядке. На черта тебе это надо?
Пропустив вопросы начлета мимо ушей, Хабаров спросил:
— А у Александрова есть какие-нибудь претензии к объективным показателям, снятым мною в полетах?
— Вот в том-то и дело: к работе у Александрова претензий нет. Больше того, он специально отметил: все записи приборов, киносъемка, выполненные в воздухе, — выше всяких похвал. Но ведь что получается — объективные данные говорят как раз не в твою, а в его пользу…
— Это если не учитывать, какой ценой добываются такие данные.
— Понимаю, ты хочешь сказать: если я отлично спилотировал с александровскими приборами, это еще вовсе не означает, что повторить полет может любой другой летчик. Так ты думаешь?
— Конечно. Серийные приборы создаются не для испытателей, а для летчиков массовой квалификации. Это во-первых. Но есть еще во-вторых, и оно более существенно: не летчики должны служить приборам, а как раз наоборот — приборы летчикам. Так?
— С этим я согласен. Но только с этим. — Начлет припечатал растопыренной пятерней по столешница — А что касается всего остального, хочешь или не хочешь; вывод можно сделать только один: на совещании у Александрова ты вел себя далеко не лучшим образом. Несолидно держался, Виктор Михайлович, совсем несолидно…
— Вопрос, Федор Павлович, можно? Начиная; с какой должности, или, может быть, с какого воинского звания человек приобретает право на хамство?
— Что, что?
— Александров генерал-полковник, доктор наук, профессор и корифей по части гироскопов, его конструкторское бюро пользуется заслуженным авторитетом и все такое. Но сам Александров не летчик и никогда летчиком не был, и поэтому он не может ни знать, ни понимать, ни чувствовать того, что знаю, понимаю, чувствую я. Александров не согласен со мной. Хорошо! Давайте организуем контрольные полеты, пригласив летчиков разной квалификации, сравним субъективные заключения и объективные показатели, записанные контрольной аппаратурой. Позовем на помощь медицину. Пусть меня с ног до головы обклеят датчиками и запишут, если это только возможно, расход нервной энергии с новым авиагоризонтом и со старым. Это была бы наука, деловой подход, поиск истины. А вчерашнее совещание — провинциальный базар…
— И ты, Виктор Михайлович, оказался на этом базаре в роли одной из торгующих баб!
— Благодарю, Федор Павлович. Спасибо за ценнейшее признание…
— Не обижайся, не обижайся, Виктор Михайлович, я тебе правду говорю.
— А я нисколько не обижаюсь, только что вы заметили, что я оказался одной из торгующих баб. По-моему, стоит повторить это определение Александрову, и все встанет на место…
— Ох и трудный ты человек, Виктор Михайлович!
— Нормальный я человек. Самый нормальный. Беда в том, Федор Павлович, что Александров никогда не услышит того, что слышал сейчас я. А зря! Если бы каждый болел прежде всего за дело, дороже ценил свое достоинство, меньше вздрагивал при звонках прямых телефонов, куда бы легче жилось на свете. Не жизнь в авиации была б, а сплошной престольный праздник. — Хабаров посмотрел на часы. — Мне пора собираться на вылет, Федор Павлович. Будете взыскание накладывать или как?
Начлет набычился. Он все прекрасно понимал, этот немолодой уже, рано погрузневший человек, в недалеком прошлом блестящий летчик-испытатель. Кравцов нисколько не сомневался в правоте Хабарова. Где-то в глубине души он завидовал ему: вот уйдет сейчас из кабинета, переоденется в летное обмундирование и махнет в небо. Ни телефонов тебе, ни совещаний, никакого «политеса» — ты и машина. Трудно? Не всегда, не каждый раз. Ясно? Тоже не всегда, не каждый раз. Но зато никакого вмешательства ни снизу, ни сверху. И компромиссов искать не надо. Делай свое дело как следует — и будешь жив. Обласкан, награжден, прославлен — это уж другой вопрос, во многом тут от везенья зависит. Но что бы ни случилось на земле, одного у тебя никто и никогда отобрать не может: пока ты жив, ты победитель!
Начлет по собственному опыту знал, что это за чувство и что за награда.
Плохо гореть в небе. Горел Федор Павлович. Помнит.
Плохо тянуть на одном двигателе домой. Тянул Федор Павлович. Тоже помнит.
Плохо маневрировать с заклиненными элеронами. Маневрировал Федор Павлович. Хлебнул горя.
Плохо выбрасываться из разваливающейся машины с парашютом. Прыгал Федор Павлович. Два раза прыгал.
Но до чего же хорошо возвращаться и знать, видеть: сумел, выиграл, выкрутился, перехитрил, не растерялся, сообразил и на этот раз.
Семнадцать тысяч раз возвращался домой Федор Павлович… И все помнит.