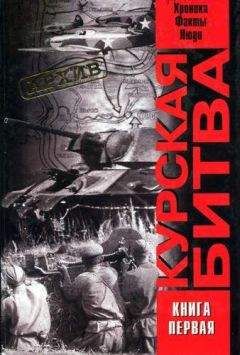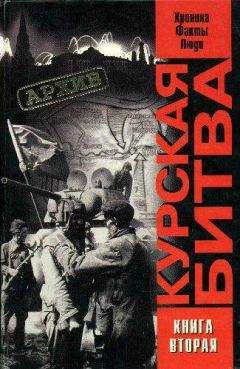Яков Михайлик - Соколиная семья
— Отличный удар! — похвалил Балюк и, выскочив впереди и слева от меня, передал по радио: – Атакуем!
Полупереворотом мы опять пошли на стаю бомбардировщиков. Впереди, несколько правее нас, Ткаченко и Петров добивали еще одного хейнкеля. Остальные самолеты круто развернулись вправо и, беспорядочно сбросив бомбы, ушли на юг.
Выполнив еще несколько кругов в заданном районе, мы собрались было возвращаться на свой аэродром, но в наушниках послышался голос со станции наведения:
— Сокол-десять, я – Радуга. Южнее меня на высоте тысяча метров "рама". Как поняли?
— Хорошо, — ответил Балюк. — Истребители прикрытия есть?
— Не вижу, — ответили с земли.
Самолет старшего лейтенанта перешел на снижение. Мы последовали за ним и вскоре в дымовой мгле отчетливо увидели ФВ-198. Четверка Ме-109 была в стороне, она пыталась отвлечь наших истребителей от корректировщика и навязать им воздушный бой. Однако мессершмитты были ошеломлены стремительной атакой ястребков. Один из мессов был подбит, и мы бросились на "раму". От прицельного удара Ивана Балюка разведчик загорелся, а после моей атаки недосчитался левой плоскости. Ткаченко и Петров добили фокке-вульфа – вогнали его в землю.
Итак, пять-ноль в нашу пользу. Хороший счет. На душе радостно, даже хочется читать стихи:
Сколько раз ты врага увидишь,
Столько раз его и убей!
Ужин привезли на самолетную стоянку. После напряженного дня все ели с аппетитом. За ужином вспоминали подробности минувших боевых заданий. Высоких слов не было: летчики не любили подчеркивать свою исключительность. Пожалуй, больше вспоминали о промахах, чем об удачах. На ошибках учились.
Беседа затянулась, поэтому никто не поехал в деревню. Разместились, как обычно, в скирде соломы, на окраине аэродрома.
Техники и механики, успевшие подготовить машины к завтрашнему дню, лежали или сидели тут же, на соломе. А те, которые не успели залатать пробоины на крыльях и фюзеляжах яков, вместе с пармовцами хлопотали под брезентовыми навесами. Впрочем, большие объемные работы почти всегда выполнялись сообща. А сегодня, как видно, был небольшой, мелкий ремонт.
Рядом со мной оказался техник звена Алексей Сергеевич Погодин. Полушепотом он разговаривал с механиком Юрием Николаевичем Терентьевым.
— А еще сообщали, — видимо, на какой-то вопрос механика отвечал Погодин, ихний ефрейтор сдался в плен. Я, говорит, никогда в жизни не забуду один день, когда в роте убило шестьдесят пять человек. Нас подняли на рассвете, погнали вперед и приказали стрелять. Сзади шел обер-лейтенант, забыл его фамилию, кажется Мейлих или Мейних, и подгонял отстающих.
— Чем? — спросил сержант Терентьев.
— Не знаю. Наверное, пистолетом или автоматом грозил. Чем же еще? Ну вот, русские, говорит тот ефрейтор, встретили нас огнем. Офицера убило, а его помощники разбежались. Глядя на начальство, солдаты тоже кто куда. Этот ефрейтор с каким-то дружком и унтер-офицером забились в траншею. А когда, рассказывает, появились русские, сдались в плен. Я, поясняет, сдался в плен потому, что не верю в победу германской армии, считаю эту войну несправедливой, а потому и безнадежной.
— А если бы надежной, так и не сдался бы? — поинтересовался механик.
— Наверно, не сдался бы, сукин сын, — выругался Погодин.
— Ай, все они такие. Задурманены. Проучить их надо, тогда поймут: не твоя земля – не ходи, не суй носа, дьявол тебя возьми!
Техник рассмеялся. Немного погодя он спросил:
— Дома-то как?
— Как у всех. Работают, терпят лишения, но не ропщут. Только бы скорее, говорят, по зубам дали фашистам, погнали их обратно, на запад. Вот о чем пишут. А ты получаешь письма?
— Да. Мои в Москве. Им тоже нелегко.
С запада послышался гул моторов. Кто-то крикнул:
— Бросьте курить!
Крик потонул в смехе. Это Геннадий Шерстнев, как всегда, веселит ребят.
— Довольно! Пора спать, — сердито буркнул Балюк. Начало стихать. Когда уже слышалось похрапывание, или раскрутка, как говорят в авиации, чья-то фигура начала приближаться к стогу. Я пригляделся. По медвежьей походке узнал Василия Лимаренко, который куда-то исчез сразу после ужина. Подойдя вплотную, он тихо спросил:
— Яша, ты спишь?
— Где тебя носит по ночам?
— Не шуми. Сейчас расскажу, — и начал устраиваться рядом со мной. — Бродил тут неподалеку. С Соней…
— С какой? Не с щелчком? — Щелчками у нас называли оружейников.
У нас было две Сони. Одна – оружейница в нашей эскадрилье, другая – писарь старшего инженера полка. Эта вторая Соня была невысокого роста, полная, с кругловатым лицом. У нее всегда веселый, неунывающий вид. Именно с ней и дружил Лимаренко.
— Мы давно встречаемся, — признался он. — Только я тебе не говорил об этом. Понимаешь, сначала я думал, если, мол, война, то людям не до любви. Ерунда это. Ханжество. Любовь остается любовью всегда. Я имею в виду чистое, светлое чувство. И вот теперь, как только выдается свободное время, так и тянет к Соне Качалиной. И она не может без меня. Каждый раз беспокоится, когда я в полете.
— Нас все в полку провожают и встречают.
— Эх, Яша, ничего тебе но понять.
— Ну, смотри, не наделай глупостей. Войне-то и конца не видно.
— Не беспокойся, все будет в порядке. Дружба, она, брат, помогает службе. Спи. — Вася счастливо чмокнул губами и отвернулся.
А почему, собственно, удивляться дружбе Лимаренко с Соней? Я ведь тоже еще в Белом Колодце познакомился с девушкой. Ее звали Катей.
Катюша… Где она теперь? В Медынь от нее приходили письма. В последнем она писала, что надела красноармейскую форму, служит в БАО – батальоне аэродромного обслуживания. Куда военная судьба забросила тот батальон? Жива ли невысокая белокурая девчушка, так любившая сельские песни, гармошку-певунью?
Я достал из кармана гимнастерки маленькую фотографию. Нет, не видно Катюшиного лица. Ночь скрывает ее светлые волосы, чуть вздернутый носик и милые ямочки на щеках. Зачем ты, темная осенняя ночь, не даешь мне хоть на секунду взглянуть на ту, с кем было столько встреч в дни тревожного предгрозья?
Чтобы хоть как-то приблизить образ Катюши, пытаюсь вспомнить последний вечер перед отправкой в тыл…
Отзвенел песенный вечер в селе. Погасли в избах поздние огоньки. Задумчиво шумят каштаны под бессонной луной. А мы идем, я и Катя, взявшись за руки. Идем к ее дому, притаившемуся за палисадником.
— Мне пора, — шепчет девушка.
— Но ведь завтра я уезжаю. Смотрю на нее умоляюще.
И Катя не уходит. Мы вновь идем по улице, меж высоких посадок. Нет, мы не объясняемся в любви, хотя о ней произнесли немало теплых, волнующих слов. Именно сегодня.
В прошлые вечера говорили, кажется, о пустяках, о всякой всячине, как будто у нас в запасе уйма времени. А ныне поняли, что скоро час разлуки. Может быть, долго, очень долго не встретимся, и поэтому надо о многом друг другу сказать.
— Ты мне будешь писать? — тревожно спрашивает Катя.
— Да. И очень буду ждать писем от тебя. Девушка не говорит спасибо. Вместо нее говорит благодарное пожатие руки.
И на новом месте будут волжанки, — произносит Катя. — Они тоже любят… засматриваться на летчиков. Если ты с кем-нибудь из них будешь дружить, твоя украинка не напишет письма.
— Откуда это – дружба и ревность?
Катюша не отвечает. Она смотрит на меня молча. Любовь и ревность – это еще куда ни шло. А дружба и ревность, по-моему, несовместимы. Так ли думает Катя? Наверное, не так, если говорила о волжанках.
— Катенька, как по-твоему, сколько лет могут дружить люди?
— Вечно, пока живы, Яша.
— А любить?
— Я никого еще… Не знаю. Но если… И любить надо вечно. Иначе, какая же это любовь?
Мы подходим к дому, где живу я.
— Ты меня проводишь? — спрашивает Катя.
Зачем спрашивать? Конечно провожу. Мне еще надо попросить у нее фотокарточку и что-то сказать. Наверное, самое главное. А что главное?
Мы идем и молчим, окруженные тишиной. Только деревья шуршат неопавшей поздней листвой.
— Яша, я пойду служить в батальон.
— Зачем?
— Служат же девушки… А потом… с батальоном я скорее тебя найду, когда, ты вернешься с Волги.
Значит, Катя боится, что потеряет меня. Значит, любит.
— Милый мой солдат. — Я обнял Катю за плечи. Девушка вскинула руки и дотянулась до моей щеки.
Объятия тоже вечность, как дружба и любовь.
— Пойдем, — отпрянула Катя и, достав из кармана блузки карточку, протянула ее мне: – Возьми. На память.
Робко прокричали, будто боясь нам помешать, ранние петухи. Вот и Катюшин дом. Еще минута, и Катя всплеснула косынкой из-за палисадника. Я гляжу в сторону, где только стояла девушка среднего роста со светлыми волосами, чуть вздернутым носиком и круглыми ямочками на щеках. Скрипнула дверь. Щелкнул засов. А мне не хочется уходить домой, потому что неизвестно, встречусь ли еще когда-нибудь с Катей.