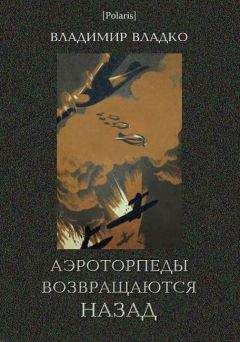Владимир Бондарец - Военнопленные
В тамбур выставили обувь. В комнату затащили парашу. За дверьми прогромыхала связка ключей. Ставни завинчены. Из щели под дверью тянуло холодом. На пороге нарастал синеватый иней.
Дневальный затопил «буржуйку». Любители подразнить вечно тоскующий желудок клеили на нее пластики хлеба. Аромат печеного связывал в узел пустой кишечник.
У стола, подтянув ноги на табурет, резались в преферанс. За проигрыш рассчитывались махоркой, а ее ценили на вес золота. Поэтому игра проходила азартно, с обязательной руганью. В стороне от печки — замораживающий холод.
Я подружился с Волиным. Он большой, сильный, хорошо знает жизнь. Люди в его рассказах всегда внутренне красивы, собранны, как и сам рассказчик. Я был уверен, что фамилия Волин не его и за нею он прятал свою настоящую, должно быть имея на то особые причины. Все, что он мне рассказывал о чертежке, оказалось правдой. В чертежке по-настоящему работали только четверо: Будяк, Присухин, Скворцов и Степанян.
Будяк и Присухин — пожилые опытные инженеры — проектировали мощную турбину. Скворцов и Степанян разрабатывали проект какого-то сверхинтересного моста с пролетами между опорами чуть ли не в километр. У их досок подолгу торчали инженеры-немцы, и в случае надобности эти «труженики» могли, взяв с собой чертежи, уйти за проволоку «на консультацию» в стоящий напротив приземистый барак. Таким правом не пользовался даже старшина лагеря Меньшиков.
В чертежке были убеждены, что «спецов» там подкармливали. У Присухина и Будяка под куртками упруго круглились животики. Оба они низкие, коренастые, круглоголовые — Бобчинский и Добчинский. У Скворцова на пунцовой сытой физиономии топорщились рыжие усики, из-под них в улыбке оскаливались мелкие желтые зубы. Остальные делали мартышкину работу: перечерчивали вылинявшие синьки на ватман, копировали затем с них на кальку, и все это для того, чтобы получить такую же синьку, только новую.
Мальхе в чертежке почти не бывал. Вместо него хозяйничали инженеры унтер Пеллерт и рядовой Енике. Унтер щеголял округлыми мягкими жестами, крепкими, как скипидар, духами и медалью за Восточный фронт. Он постоянно улыбался холодной гадючьей улыбкой, был подл и мелочен. Высокий сутулый Енике — страшный с виду — был бесконечно добрым скептиком. От него постоянно несло водочным перегаром, от всего он отмахивался огромной вялой ладонью и даже не вытирал длинную желтую каплю, постоянно дрожавшую на кончике носа.
В течение дня они бывали в чертежке час-полтора. И только в это время мы делали вид, что заняты работой. Остальное время проходило в ничегонеделании и спорах. Самыми заядлыми спорщиками были все те же Будяк и Присухин. Измена Родине все еще щекотала их совесть, и в спорах они пытались обелиться, выгородиться, убедить не только себя, но и других в правоте и необходимости своего подлого поступка.
Спор начинали спокойно, с выдержанными интонациями салонного разговора. А под конец кричали друг на друга и откровенно матерились.
— Я не согласен с вами, Пушкарев, — вернулся к прерванному спору Будяк. — Вы говорите, что наша интеллигенция обязана отдать войне все и даже жизни свои. Подумайте, ведь это же разрушение, смерть. Во имя чего мы должны жертвовать собой? Где же враг? Разве немцы — враги интеллигенции, враги культурных людей?
Пушкарев только хмыкнул.
— Не хмыкайте! Немцы воюют и знают за что. А за что мне воевать? — Атласный череп Будяка покраснел. — За то, что большевики нас колошматили в революцию как хотели? Подозревали, преследовали нас за шляпу, за ношение галстука, за интеллигентные манеры, за то, что мы отличались от мужичья и не хотели с ним якшаться и лобызаться. Перестреляли цвет страны!
— Цветик лазоревый. — Пушкарев улыбнулся колко, ехидно. — Не за тем ли вы и перебежали к немцам, чтобы тут вонять?
Будяк вскипел:
— Да! Перебежал и не скрываю! Не хочу воевать за кусок ржаного хлеба, за котелок пшенной баланды с селедкой!
— Ахинею несешь, — сдержанно ответил Пушкарев. — Народ воюет не только за кусок хлеба. А вообще жаль, что вас, таких типчиков, своевременно не убрали. Цвет!
— Хам! — завизжал Будяк.
На подмогу дружку подскочил Присухин.
— Послушайте, Пушкарев, какими силами вы собираетесь победить немцев?
— Обыкновенными: людскими, лошадиными.
— Вы знаете, я не перебежчик, но…
— Переходчик?
— Язвите? А надо плакать. Именно плакать.
— Плачьте на здоровье. Гнилушки из интеллигенции обычно слезоточивы. Мне тоже не радостно, что мы много кричали о бдительности, а у себя под носом проглядели будяков и присухиных. Но я же не плачу?
— Вы переходите на личности!
— А вы не кричите. Большая река течет спокойно, а умный человек не повышает голоса.
— Ответьте на мой вопрос: чем вы собираетесь воевать? Нас лупят второй год по загривку…
— А война и не может быть веселой прогулкой. Гитлер своим бюргерам обещал молниеносную войну. Где она? Завязли по шею! Теперь дай бог ноги вытащить да убраться восвояси.
— Кто, немцы завязли?! — От удивления белесые брови Присухина полезли на лоб.
— Вы слепы, как трехдневный котенок.
Присухин протестующе поднял руку. Пушкарев продолжал, не обращая на это внимания, и перед самым носом Присухина загибал пальцы.
— Под Москвой — раз, на Северном фронте — два, под Сталинградом — три… Это начало их конца.
— Ха-ха-ха-ха. Вы шутник, Пушкарев.
— Боюсь, что немцам не до шуток. А вам надо бы умишко иметь хоть маленький, да свой. Интеллигенция! — напомнил ему Пушкарев и, грустно улыбнувшись, покачал головой.
— Да, интеллигенция, — подхватил Присухин. — Будяк прав: как бы там ни было на фронтах — мы обязаны сохранить себя. Наша творческая мысль после войны будет на вес золота.
— Правильно! Только вы свою творческую мысль продали немцам и именно за кусок ржаного хлеба да черпак баланды. Лижете им зад! Но в наше будущее не лезьте. Оно вас не примет. И ваши мозги можете выбросить на свалку, они у вас подпорчены.
— Как это?
— А так… — неопределенно буркнул Пушкарев.
— Нет, ты объясни!
— Пошел к черту! Продался с потрохами, а девственницу корчишь, вертишь тут подолом. Иди перед Мальхе поверти — приласкает, подкормит.
— А ты видел? — Присухин уже не владел собой. — Слишком много знаешь, голубчик! Я доложу!
— Катись докладывай! Скворцов, убери эту вертушку! Мешает работать! Как-никак трудимся.
Присухин с радостью донес бы на Пушкарева, но подлая его душонка была очень труслива. Он до икоты боялся сурового суда коллектива. Подполковник же Пушкарев пользовался всеобщим уважением. Был он старше всех по возрасту и званию, отличался безупречной честностью и твердостью характера. Мальхе обращался с ним подчеркнуто вежливо, а фельдфебель откровенно ненавидел, но, уважая начальство, от выражения чувств воздерживался.
Недели через две нам припомнилась фраза Пушкарева: «Это начало их конца». Предсказание сбылось: 1 февраля 1943 года по всей Германии был объявлен трехдневный траур. Окруженная группировка Паулюса сдалась. В Сталинграде с немцами было покончено.
Первое февраля началось, как и обычно, утренней поверкой. Ночью валил густой снег, перешедший к утру в унылый дождь, мелкий, будто просеянный сквозь мучное сито. Белесой вуалью ледяная влага обволакивала двор, бараки, неяркие электрические фонари, колкими капельками сыпалась за воротники. Пленные стояли, зябко приподняв острые плечи, прятали в рукавах разномастных шинелишек посиневшие руки. Под ногами шуршало и чавкало месиво мокрого снега. Перед строем расхаживал фельдфебель. Он был трезв и поэтому особенно зол. То и дело раздавался треск пощечины, сопровождаемый сиплой бранью:
— Рехтс ум!
Вразнобой пленные повернулись направо. Дружного щелчка не получилось. По глубокому убеждению фельдфебеля, строевая подготовка была нужна пленному как хлеб насущный. Четкий солдатский шаг и громкий щелчок каблуков — неотъемлемый признак культурного человека.
Во имя культуры мы месили колодками снежную кашу. Фельдфебель зеленым змием летал по двору, обучая нас сложным перестроениям в движении и на месте.
Команды он дублировал взмахами шпаги, и часто этот атрибут офицерской доблести со свистом ложился на лопатки пленных.
— Нале-во! Напра-во! Круго-ом… марш!
Мокрые колодки скользили, стучали, точно высыпаемая на пол картошка.
— Бегом… марш!
Посреди двора фельдфебель подсчитывал ногу.
— Айн, цвай… Айн, цвай…
Темп ускорялся.
— Бистро, бистро! — кричал фельдфебель, полосуя отставших клинком. — Бистро, гер гот сакраменто!
В хвосте едва плелся Жихарев, — задыхался в приступе астмы.
— Вперед! Вперед, доннерветтер!
Взбешенный фельдфебель налетел на него, размахнувшись, ударил по лицу.