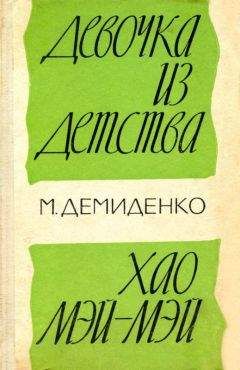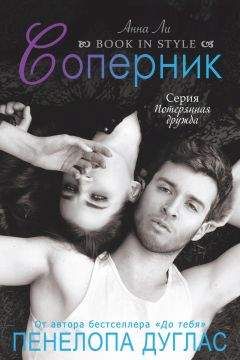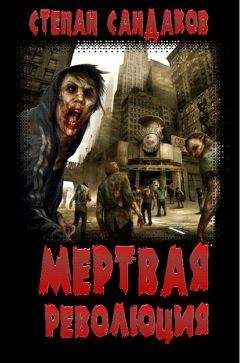Геннадий Воронин - На фронте затишье…
На своем пути я знаю здесь каждое деревце, каждый кустик. Сейчас впереди появится большой старый дуб. Вильнув от него в сторону, тропинка углубится в самую гущу деревьев, которые при сильных порывах ветра скрипят своей старой корой, будто стонут. Лохматые щупальца их веток в темноте тянутся прямо к лицу, липнут к полам шинели. Они словно ласкаются…
Через балку я могу пробраться с закрытыми глазами. Но как их закроешь, когда надо в оба смотреть вперед, если не хочешь попасть в засаду…
Мысли опять возвращаются к Кохову. Смутный протест поднимается в моей душе против его бравады. Наверное, он сейчас уже докладывает по телефону обо всем, «увиденном собственными глазами», — о том, как курсируют по дороге на Нерубайку машины с живой силой противника, как перемещается вражеская пехота, как стягиваются в Нерубайку и Омель-город немецкие автоматчики.
…С Коховым я познакомился сразу после прибытия в полк, на ночном дежурстве. Наши обязанности оказались тогда почти одинаковыми. Мы должны были бодрствовать, когда все спали: его назначили дежурным по штабу, меня — посыльным.
Ночью Кохов расстелил на столе карту, достал небольшой прозрачный кружок, испещренный цифрами, делениями, дырками, положил рядом целлулоидную линейку, коробку карандашей и начал сосредоточенно выводить кружочки, ромбики, стрелы.
Он долго трудился, не разгибая спины и ни разу не посмотрев в мою сторону. Наконец, отбросив карандаши и отступив от стола, капитан полюбовался разукрашенной, словно картина, картой и с удовлетворением произнес:
— Запомни, ефрейтор, кроме Петрова и Кохова, в полку никто не способен нанести обстановку вот так!
Он изучающе посмотрел на меня и спросил:
— Ты в этом что-нибудь разумеешь?
— Нет, товарищ капитан.
— Как же ты попал в артиллеристы?
— Я радист… Во взводе управления.
— А‑а…
Кохов прошелся по комнате и, возвратившись к столу, снова повернулся ко мне:
— Ты не думай, что стрелять из пушки проще, чем из ружья. Ты знаешь хотя бы, что такое СУ?
— Нет…
— СУ — это самоходные установки, — капитан весело рассмеялся. — А что такое КУ?
Я молча пожал плечами.
— Ничего ты не знаешь. А ну, иди сюда. Вот смотри: Д — это дальность стрельбы. ЦТ — цель топографическая. Треугольником и буквой Д обозначаются поправки дальности… — И он начал объяснять мне порядок подготовки к стрельбе по закрытым целям.
Тогда я впервые «уразумел», что артиллерия — это целая наука. Чтобы подавить цель, оказывается, надо сначала определить по карте ее дальность, потом поправки дальности, потом сделать расчет и поправки на температуру и ветер. А еще надо определить высоту цели, а еще найти этот самый КУ — коэффициент удаления, а еще шаг угломера и что-то еще и еще.
Свою популярную лекцию Кохов оборвал неожиданным вопросом:
— Скажи, ефрейтор, а смогу я стать артиллерийским генералом?
— Каждый может, товарищ капитан.
— И ты можешь!? — Кохов остановился напротив меня. Плечи его затряслись от смеха, а маленькие темные глазки мгновенно сузились, спрятались за веками.
В ту ночь его насмешки меня ничуть не обидели. Наоборот, капитан показался умным боевым офицером. Но вот здесь, на высотке, боевитости у него поубавилось. Хочет стать артиллерийским генералом, а сам отсиживается в чужом блиндаже.
Нежданный гость
В поведении Смыслова появилась какая-то странность. Никогда не замечал, чтобы Юрка — самый разговорчивый, общительный, компанейский парень в полку — вдруг начал уединяться. Он украдкой что-то читает, подолгу раздумывает над какими-то потрепанными листочками. Все чаще я вижу его притихшим, рассеянным.
Вот и сейчас он опять отодвигается в самый уголок блиндажа, лезет в карман, шелестит бумажками… Рядом со мной сладко похрапывает и причмокивает во сне губами Вася Зуйков, которого Кохов снова откомандировал к нам на высотку. Упершись ему коленом в живот, спит старшина Кравчук. Юрка, наверное, думает, что я тоже заснул. Он расправляет один из листочков в ладонях, заглядывает в него, закрывает глаза и начинает беззвучно шевелить губами.
«Неужели он молится?!» Приподнимаю голову:
— Что ты делаешь?
Юрка вздрагивает, но бумажку не прячет, она остается у него на коленях.
— А тебе что? Спи… Во сне полезные витамины есть, — ворчит он негромко, вполголоса, чтобы не разбудить Зуйкова и Кравчука.
— Нет, Юра, ты сначала ответь…
— Оказывается, ты любопытный. Ну, стишки разучиваю. Что дальше?
— Какие стишки?
— Военные. Фронтовые.
— Зачем?
Юрка вскидывает голову, смотрит с удивлением:
— А с чем я выступать буду, когда выйдем на отдых?
— Где выступать?
— Как где?! В самодеятельности. Где же еще.
Вон, оказывается, в чем дело. Мне становится стыдно за мои подозрения. Я и забыл, что Юрка великий оптимист. Еще неизвестно, чем кончится наша «оборонительная кампания», а его мысли уже в будущем.
— Ты что-нибудь понимаешь в поэзии? — неожиданно спрашивает Смыслов.
«Что я понимаю в поэзии?..»
Наверное, понимаю не меньше его: я ушел в армию из десятого класса, а он из девятого. Я всегда добросовестно учил наизусть стихи, которые задавали на уроках литературы. Но в памяти почему-то остались немногие. Могу перечесть их по пальцам: «На смерть поэта», «Узник», «Белеет парус», «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…» Пожалуй, и все. Если расшевелить воображение, может быть, припомню отрывок из «Евгения Онегина» — «Мой дядя самых честных правил…» Зато, убей, ничего не вспомню из Маяковского…
Обо всем этом я сбивчиво говорю Юрке. Он слушает меня внимательно, с интересом.
— А фронтовые стихи знаешь какие-нибудь?
Что я могу ответить, если совсем не читал фронтовых стихов, потому что я «без году неделя» на фронте.
— Ладно, я тебе дам почитать. А сейчас на, проверь — все я правильно выучил или нет. — И он протягивает мне помятый листок, на котором его собственными каракулями написано стихотворение.
— Ты следи, а я рассказывать буду. Только не подсказывай сразу. — Смыслов задумывается, с опаской оглядывается на спящего Кравчука и начинает вполголоса декламировать:
Нас пять бойцов в землянке тесной,
Живем на кромке огневой.
К печурке крохотной железной
Нас гонит ночью ветер злой.
Свели нас разные дороги
Под неотесанный накат.
За дверью пушка,
Парень строгий
На взводе держит автомат.
А я готовлю чай в жестянке,
Наводчик черствый хлеб жует.
У печки мокрые портянки
Дымятся влагой всех болот.
Конечно, жить так скучновато,
Ведь нам всего по двадцать лет…
Идет война,
А мы — солдаты,
И потому претензий нет.
…Юрка уже молчит, а я все смотрю на подпись: «Ст. лейтенант В. Савицкий…» Странно, кажется, я давно так не волновался… Нас тоже пятеро в этой тесной землянке. И дороги нас свели разные. И накат над нами из неотесанных бревен. И пушки стоят за дверью. И часовой с автоматом. И портянки мы сушим так же, как тут написано. Только в одном-единственном месте сказано не совсем верно: из пятерых нам троим еще нет двадцати…
— Ты запомнил все правильно. Всё-всё, — торопливо говорю Юрке, а сам снова перечитываю стихотворение:
…Идет война,
А мы — солдаты,
И потому претензий нет.
— Вот видишь, один стишок про запас я выучил. На первый раз хватит, — радостно говорит Юрка. — На, читай, если хочешь. Просвещайся…
Он протягивает мне целую пачку бумажек, а сам ложится навзничь, закашливается, потом долго беспокойно возится, устраивается поудобнее.
Перебираю листочки, вырванные из тетрадки в косую линейку. Они сложены неряшливо, как попало, на уголках протерты до дыр. Видимо, во многих руках успели они побывать.
Перечитываю рваные пляшущие строчки о разведчиках, вернувшихся из поиска и пьющих родниковую воду, о стрелковом взводе, попавшем под минометный обстрел, о первом бое молодого солдата.
А я лежу в пыли,
И все осколки мимо.
Мгновения мои
Отсчитывает мина…
Странные мысли вызывают у меня эти фронтовые стихи: думаю о том, каким далеким вдруг становится мне пушкинский дядя. А что, если бы можно было посадить его вот сейчас в окопы к саперам. Сколько часов понадобилось бы, чтобы он занемог окончательно и бесповоротно? Вряд ли он в такой обстановке сумел бы заставить себя уважать…
Мои размышления прерывает треск до отказа распахнувшейся двери. В блиндаж не входит, а буквально врывается незнакомый солдат. Прямоугольная в плечах, широченная плащ-накидка придает ему вид атлета-богатыря.
Он останавливается у порога и бросает слова в темноту, словно камни:
— Кто здесь?
— Свои, самоходчики, — откликается Юрка.
— Это моя землянка.
В его грубоватом, простуженном голосе злые нотки. С хрустом раздвинув смерзшуюся накидку, незваный хозяин бросает ее прямо на спящего Зуйкова.
![Николай Печерский - Важный разговор [Повести, рассказы]](/uploads/posts/books/210499/210499.jpg)