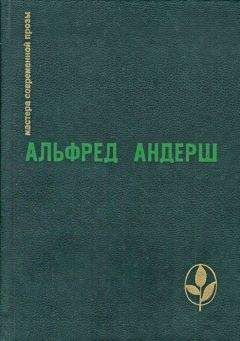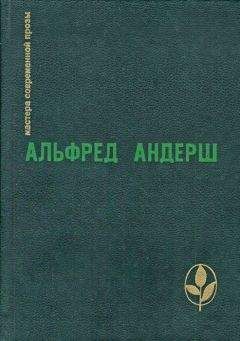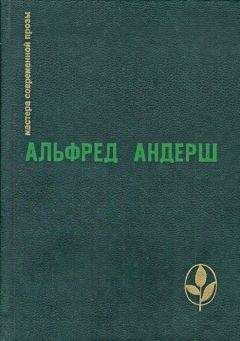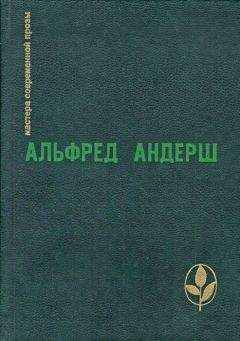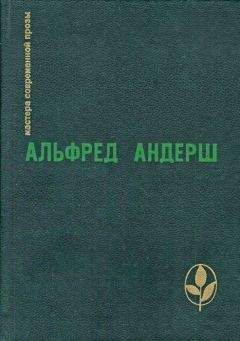Альфред Андерш - Винтерспельт
Случалось, конечно, что под пытками интеллигенты молчали, а рабочие-металлисты (или каменотесы) после первых же ударов начинали давать показания, но обычно бывало не так. Обычно с интеллигентами справлялись быстрее, чем с рабочими - металлистами (или каменотесами).
Хайншток вынул завернутый в бумагу кусок сырой печенки, которую Кэте принесла ему вчера с теленского двора, развернул и положил перед сычом. Птица не притронулась к еде, испуганно отодвинулась.
Вчера вечером, прежде чем они отправились в путь, чтобы вместе дойти до первых домов Винтерспельта, Кэте посмотрела на башню из ящиков и сказала:
— Строить тайники — твоя специальность, Венцель.
— Похоже, это у нас общее с майором Динклаге, — ответил он.
Она напомнила ему о пещере на Аперте, желая тем самым сказать нечто большее, чем просто несколько дружеских слов. Но рана, которую она ему нанесла, была еще слишком свежа. Впредь он будет держать себя в руках.
Она промолчала и по дороге в Винтерспельт не взяла его под руку.
Раскурив трубку, он сел за стол, спинои к тому подобию скалы с расселинами, которое он создал из ящиков, благодаря чему птица могла наблюдать за ним и в то же время считать, что ее не видят, придвинул к себе газету, которую с тех пор, как ему перестали доставлять почту, покупал у Вайнанди, прочитал заголовок «Героические оборонительные бои в Карпатах», а под ним сообщение, из коего понял, что Красная Армия скоро вступит на чешскую землю, потом отложил газету.
Только теперь у него мелькнула мысль, до чего же необъяснимо то, что именно вчера вечером, почти следом за известием, сразившим его — Кэте не могла этого не знать — наповал, как не могло сразить ничто другое, она напомнила ему о пещере на Аперте, о том забытом базальтовом коридоре, который в дни после 20 июля, когда они из нужды сделали добродетель (не очень, правда, добродетельную), служил им «приютом любви» — слова эти Хайншток употреблял только в разговорах с самим собой, ибо не сомневался, что Кэте вспылила бы, если бы он выразился так при ней.
— Я тебя и не люблю вовсе, — сказала она ему как-то. — Ты просто мне приятен.
Почему же вдруг вчера вечером этот намек на пещеру? Одной из трудных черт характера Кэте было то, что она тщательно взвешивала слова-и чужие, и свои собственные.
Хайншток решил, что хватит размышлять об этом: гораздо важнее теперь разобраться в том, к каким последствиям приведет переход Кэте на сторону противника, хотя в личном плане эта мысль была невыносима, а в политическом и вовсе невозможно было представить себе такое.
Чтобы все же додумать до конца невыносимую и невероятную мысль, нужно было прежде всего отсечь все неясные выражения («это сразило меня наповал, как не могло сразить ничто другое», «рана, которую она мне нанесла») и найти для случившегося точное определение.
Кэте была теперь в связи с этим майором Динклаге. Она спала (возможно, уже спала или будет спать) с офицером фашистской армии.
Она самым конкретным образом перешла в лагерь врага.
Хотя эти фразы в смысле ясности не оставляли желать лучшего, они показались Хайнштоку неубедительными. Они не принесли ему того удовлетворения, какое обычно приносил удачный политический анализ обстановки, и не потому, что ему не понравился результат его исследования. Анализ поражений мог давать такое же удовлетворение, как и анализ побед. Иногда даже большее. Но у него было чувство, что в этом случае ‹?н не учел какие-то ему не известные факторы.
Или это чувство тоже было всего лишь иллюзией?
По царапанью, рывкам и жадным глотательным звукам он понял, что сыч набросился на печень.
Недавно Хайншток сказал Шефольду:
— Берите пример с этого сыча! Он прячется. Он видит все, но следит, чтобы его самого никто не видел.
— Чепуха! — отмахнулся Шефольд. — Вы его прекрасно видите. Вы только держитесь так, что он может вообразить, будто вы его не видите.
Не дав Хайнштоку возразить, он добавил:
— Было бы совершенно неверно, если бы в трактирах я садился в самый темный угол, не говорил ни слова, молча выпивал свое пиво и исчезал.
— Этого, видит бог, вы не делаете, — сказал Хайншток.
— Да, потому что иначе я наверняка привлек бы к себе внимание, — сказал Шефольд.
Хайншток несколько раз встречал его летом в трактирах Айгельшайда и Хабшайда. Нет, он никогда не забивался в уголок, а стоял на виду, у стойки, болтал с местными жителями, его приглашали выпить, он сам ставил всем по кружке.
— Но вы хотя бы не угощали американскими сигаретами в фирменной упаковке, — сказал Хайншток.
— О, неужели я это делал? — На сей раз Шефольд действительно был смущен.
— Да, — сказал Хайншток, — я уж подумал, не обманывают ли меня собственные глаза.
Если Шефольду и это сошло с рук, то лишь потому, что он так держался: людям и в голову не приходило расспрашивать его.
Возможно, Шефольд был просто существом, не ведающим страха, и потому действительно нельзя было сравнивать его с той божьей тварью, что за его спиной жадно пожирала сейчас кусок печенки? Но этому противоречило то обстоятельство, что он поселился на хуторе Хеммерес, расположенном в недоступном месте. В темной речной долине, в этом типичном обиталище филинов. И, очевидно, живо сознавал грозящую ему опасность, иначе не принес бы ему однажды сверток, в котором находилась ценная картина, с просьбой, чтобы Хайншток, знаток надежных мест (как он выразился), спрятал ее.
Шефольд отличался от сыча только тем, что демонстрировал весьма редкую как в природе, так и среди людей систему поведения: он пытался себя обезопасить, себя же подвергая опасности.
12 октября 1944 года. Правда, никогда еще он не вел себя так безумно, как сегодня. О безопасности уже не могло быть и речи. И то, что он, Хайншток, пришел сегодня на это место под соснами, над известняковым обрывом, чтобы, если удастся, увидеть, как Шефольд выйдет из лесу на краю гористого западного берега Ура и начнет спускаться вниз по пустынному склону, отличавшемуся от склона той горы, на которой стоял он сам, только тем, что на нем густо разрослись можжевельник, лещина и бирючина, было, собственно, невероятно, если учесть, что совсем недавно, всего неделю назад, в четверг-да, только в прошлый четверг-он пытался предостеречь Шефольда от прогулок по немецкой территории, более того: запретить их ему. И вот теперь Шефольд — притом по его, Хайнштока, наущению — показался на линии фронта. Вместо того чтобы по долине ручья, по сосняку и ольшанику сравнительно безопасно выйти в тыл врага, Шефольд, даже не пытаясь укрыться, появился у первой из двух линий майора Динклаге — и не потому, что вдруг спятил, а следуя его, Хайнштока, просьбе и согласно его указаниям. Это было невероятно. «Должно быть, я сам спятил, когда посылал его на такое», — подумал Хайншток, испытывая едва ли не благодарность к южному склону Эльхератского леса за то, что склон этот, как он и предполагал, не позволил ему увидеть в бинокль Шефольда.
Незадолго до этого, стоя в своем окопе и ожидая появления истребителей-бомбардировщиков, гул которых он всегда слышал своевременно, обер-ефрейтор Райдель занимался тем, что мысленно снова и снова поносил начальство, неправильно разместившее передовые посты боевого охранения. Нельзя рыть окопы на середине склона. Хотя склон был довольно пологий, но именно эта пологость позволяла атакующему быстро пересечь его, спуститься вниз по сухой земле, поросшей желтой низкорослой травой и даже не заминированной. Достаточно, чтобы в атаку пошла всего одна рота, и через три минуты от передней цепи постов останется мокрое место. Пока враг не приблизится, каждый мог из своего окопа подстрелить двух-трех атакующих — не больше. Этого недостаточно, чтобы остановить атаку. Правильно было бы рыть окопы там, наверху, — их, правда, пришлось бы на время артиллерийской подготовки оставить, а потом, как только артиллерия умолкнет, снова занять. Райдель был уверен, что знает, как рассуждало батальонное начальство: задача передовой позиции — только сбить темп вражеского наступления, чтобы к главной полосе обороны, к цепи холмов по ту сторону дороги, где располагались пулеметные точки, противник продвигался уже медленнее, рассредоточеннее. Передовой позицией они жертвовали. Эшелонированная оборона — так это у них называлось. Райдель ни в грош не ставил эшелонированную оборону. Он считал, что существует только три надежных вида обороны: 1. Внезапный огневой удар с полностью замаскированных, не обнаруженных вражеской разведкой позиций; 2. Массированное использование танков, в том числе и для отражения атаки; 3. Нападение. Поскольку он знал — притом не только с тех пор, как двенадцать дней назад прибыл на'Западный фронт, а уже в России, — что возможности 2-я и 3-я отпадают, войну он считал проигранной. Приносить себя в жертву он не собирался. Уж он-то сумеет смыться с передовой, к тому же невыгодно расположенной, прежде чем дело будет совсем дрянь. А пока он еще питал надежду, что на этом участке, где он находится вот уже двенадцать дней и дважды в сутки по четыре часа стоит на посту, вообще никогда ничего не произойдет.