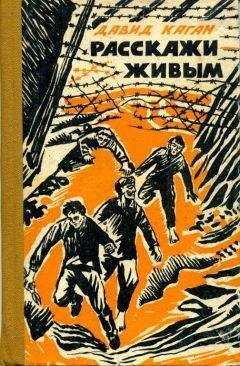Иван Кривоногов - Родина зовет
Словом, мы оказались в полной власти у полицаев.
Жили в нашем бараке Левченко и Жогин, обыкновенные с виду парни. Так же, как и все мы, ходили на построения, бегали за добавкой на кухню, бродили по лагерю в поисках чего-нибудь съестного, были такие же голодные и заморенные.
Однажды их вызвали в караульное помещение. Мы не понимали, что с ними собираются делать,-ведь они ни в чем не провинились. Но наутро все выяснилось: Жогин и Левченко вбежали к нам в барак с повязками на рукавах и со здоровенными палками. Они бегали по бараку и с неистовой руганью сгоняли нас на построение.
Это, событие горячо обсуждалось после поверки. Мы были потрясены их предательством. Кое-кто пытался их оправдать: с голоду, мол, на все пойдешь, но остальные набросились на защитников с возмущением.
Полицаи усердствовали вовсю, стараясь угодить немцам. Они теперь уже спали в отдельной комнате, рядом с караульным отделением. Для них на кухне готовили отдельно и кормили досыта. Через несколько дней их физиономии стали круглыми и довольными, сами они заметно поприбавили в весе.
Видя наше общее презрение, они прониклись к нам лютой ненавистью и преследовали на каждом шагу. [61]
Однажды произошел такой случай. Ребята из нашего барака задумали раздобыть себе пищу. Ночью они через трубу проникли в кухню, взяли несколько буханок хлеба, захватили творог, приготовленный для немцев, и вылезли обратно по трубе. Но, выбираясь из кухни, в темноте задели флягу, стоящую в углу. Фляга покатилась по полу и загремела. Дежуривший у дверей кухни полицай сообщил о шуме в караульное помещение. Немцы кинулись в кухню, обнаружили пропажу и, не дожидаясь утра, начали искать воров. К утру они добрались и до нашего барака.
Ворвавшись в помещение, солдаты стали рыскать между нарами, освещая нас карманными фонариками. Били всякого, кто не успел вскочить с нар и поднять матрац и одеяло. Когда облава прошла, мы узнали, что в нашем бараке забрали пятерых товарищей, потому что у них на нарах нашли крошки хлеба.
Мы больше не спали. Одни беспокоились за себя, другие тревожились за участь товарищей, третьи восхищались их смелостью.
- Молодцы! - говорили они. - Хоть перед смертью да наелись досыта.
В шесть часов нас, как обычно, подняли, а через несколько минут в барак ввели взятых ночью товарищей. Они были избиты до того, что нельзя было узнать, и шли со связанными назад руками. На поверку их повели вместе с нами. Комендант лагеря объявил, что весь барак № 10 на два дня лишается еды, а пять человек, уличенных в краже, понесут тяжелое наказание.
В бараке началась расправа. Пятерых виновных полицаи привязали к столбам и стали избивать. А наши товарищи не могли даже закрыть лицо, так как руки их связали сзади за столбами. Окровавленные, с синими, распухшими лицами, они висели на столбах целый день и тихо стонали. Мы были здесь же, но не могли ничем помочь, не смели даже приблизиться к ним, чтобы поднести к разбитым губам кружку с водой: полицаи неотступно дежурили около них и зорко следили, чтобы никто не подходил близко.
Главным зачинщиком этого дерзкого налета на кухню был лейтенант Пронин. Его тоже сначала били вместе с другими товарищами, а потом решили повесить [62] прямо в бараке, на наших глазах. Полицаи Жогин и Левченко содрали с одного пленного обмотки, связали их, сделали петлю и накинули ее на шею Пронину. Конец обмотки перекинули через балку и начали подтягивать. Задыхаясь, Пронин едва слышно проговорил:
- Что вы делаете? Вы ведь тоже русские. Во имя детей…
В ответ Жогин, высоченный детина, только ухмыльнулся:
- Всех коммунистов перевешаем.
Второй полицай Левченко помогал подтягивать Пронина.
Мы с Володей и переводчиком Левой подошли к ним и стали уговаривать, чтобы они не вешали Пронина. Полицаи оставили свою жертву и набросились на нас с палками, крича, что мы тоже коммунисты и нас тоже нужно повесить.
Жогин и Левченко подтянули Пронина кверху и, когда его ноги оторвались от пола, привязали конец обмотки к столбу. После этого полицаи набросились на висевших на столбах товарищей и снова принялись избивать их.
В бараке было тихо. Мы молча лежали на своих нарах, подавленные тем, что произошло. Слышались стоны умирающих у столбов товарищей. Никто не решался отвязывать их. За это была верная смерть.
Труп Пронина висел на перекладине целый день. Временами в барак заходили немцы и любовались работой полицаев. Только к вечеру повешенного сняли. Остальные четверо все стояли у столбов. Их отвязали только на третий день, совсем измученных, изуродованных, еле дышавших. Долго они отлеживались на нарах и были не в состоянии не только повернуться, но даже приподнять голову, когда мы подносили им воду, кусочек хлеба или ложку с супом.
Через несколько дней двое из них скончались, а двое начали поправляться. Позже они смогли ходить, но так и остались сгорбленными и чахлыми.
Этот случай вызвал много споров и толков в нашем бараке. Одни считали, что товарищи пострадали зря, другие одобряли их. Но все мы одинаково проклинали полицаев, расправлявшихся с такими же, как и они [63] сами, пленными. Каждый как-то по-новому взглянул на себя и своих товарищей.
Пожалуй, после этого случая я впервые осознал себя совершенно взрослым человеком, от которого требуются самостоятельные решения и действия. Часами, отлеживаясь на нарах, я в те дни много думал, заново оценивая события своей жизни, стараясь взглянуть на себя со стороны.
Жил я на Волге шустрым мальчишкой, жил и не тужил в компании таких же босоногих огольцов. Когда подошла пора учения, я попал под опеку учителей. В армии меня наставляли на правильный путь командиры, и я постоянно чувствовал рядом локоть товарищей. И, хотя в первые дни войны мне пришлось командовать гарнизоном дота, в горячке боя я, конечно, не думал, что это первые самостоятельные шаги в жизни. Здесь, в плену, оторванный от Родины, от старших, от привычного уклада жизни, даже от своих вещей, я чувствовал себя нагим, брошенным в тяжелейшие условия существования. Я, как и каждый из моих товарищей по лагерю, остался наедине со своей совестью. И мне предстояло показать, что я есть сам по себе, на что способен.
К этому времени я уже успел заметить, что все лагерное население можно разделить на две категории. Была небольшая кучка людей (одни из них ненавидели Советскую власть, другие разуверились в ее силе), подавленных мощным напором немцев в первые дни войны и неудачами Красной Армии. Все они считали, что им осталось одно: сберечь свою собственную шкуру, чего бы это ни стоило. Из-за куска хлеба и миски похлебки они предавали своих товарищей и, чтобы упрочить свое положение, изощренно зверствовали. Думая только о себе, они зачеркнули в своей памяти такие понятия, как Родина, товарищество. К этой категории принадлежали Жогин и Левченко. Но таких было немного.
Подавляющее большинство пленных оставалось людьми честными. Их совесть перед Родиной была чиста.
Лагерная жизнь людей складывалась по-разному. Это объяснялось различием обстоятельств и характеров. Одни из пленных, изнуренные голодом, болезнями, [64] побоями, быстро слабели физически, теряли всякую способность к сопротивлению, опускались и угасали. Это были «мусульмане», люди конченные. Их имена, вычеркнутые из списка живых, быстро забывались.
Другие казались очень деятельными и энергичными. По целым дням охотились за горстью очисток, разбавляли похлебку водой, надеясь обмануть голодный желудок, пускались в разные рискованные предприятия, чтобы добыть еду. Они гибли под пулями немецких часовых, умирали от кишечных заболеваний, погибали под палками полицаев. Так погиб Пронин и его товарищи. Это были люди одного дня. Их помыслы сводились к тому, чтобы как-нибудь наесться.
Но среди нас были и люди иного склада, люди твердые, упорные. Они не допускали мысли, что фашисты победят, не могли мириться с ролью немецких рабов, поэтому думали только об одном - убежать! Убежать и вернуться в ряды своей армии. Каждый свой шаг они подчиняли этой цели. Твердое намерение добиться свободы заставляло их вести себя расчетливо и разумно, сберегать силы, не лезть под пули и палки, не рисковать без надобности. Не всем из них удавались побеги. Многие гибли во время облавы, их расстреливали за попытки к бегству, но они гибли гордые, несломленные, от их гибели врагам становилось не по себе.
Я считал, что только так можно вести себя, если хочешь вырваться из плена. Так же думал и Володя Молотков. С нами соглашался и Ваня Олюшенко, хотя сам иногда срывался и рисковал напрасно.
Для подготовки побега нам нужно было сколотить крепкую группу. Мы быстро усвоили неписаный лагерный закон: если ты один - погибнешь через несколько дней, в лучшем случае - недель; если у тебя есть товарищ, хотя бы один, - ты уже можешь считать себя в коллективе, а коллектив сумеет за себя постоять. У нас был коллектив - Володя, Ваня и я, но нам нужны были сообщники, ибо чем больше коллектив, тем он сильнее.