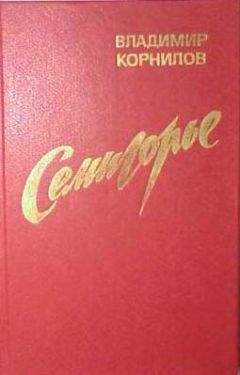Владимир Корнилов - Годины
Степанов смотрел, как приближается, увеличивается в размерах вытянутая вперед, будто живая, морда самолета, отблескивая лобовым фонарем кабины; веером выпали из-под колес черные предметы, к реву мотора добавился нарастающий, как у сирены, просверливающий душу звук. В то мгновение, когда бомбы отделились, самолет будто клюнул пронизанное солнцем пространство и круто, как по горке, пошел вверх, оставляя в воздухе летящие к воде снаряды.
Почему-то на этот раз летчика, ведущего всю шестерку, привлекли не понтоны и не остатки свай когда-то бывшего здесь деревянного моста. Выше по реке, где пологая песчаная коса ближе всех отмелей подходила к другому берегу и люди тысячами шли по косе, по воде, плыли там, где не доставали дна, где образовалась своя отчаянная переправа, перепоясавшая реку настолько плотной живой стеной, что за ней — это было видно от понтона — река словно бы набухла и даже подтопила песчаную пологость берега, — именно туда, в эту живую, движущуюся людскую череду, в которой мало было солдат, но почти сплошь шли и плыли беженцы из занятых чужой армией городов и селений, косо летела с воем, с нарастающим визгом быстрая стайка бомб. Другие налетчики в точности повторили то, что сделал первый из них; шесть бомбовых залпов с дробным, сотрясающим все окрест гулом разметали живую людскую плотину. Вскипевшая мутная вода хлынула в обозначившиеся провалы, вместе с пеной, кровавой в отблесках солнца, сплошь поплыли по текучей середине реки человеческие тела.
Шестерка «юнкерсов» выстроилась в круг, и, как будто повторяя для зрителей устрашающий цирковой номер, пошел вниз, растягивая круг в спираль, все тот же первый самолет. На двух ревущих его моторах встопорщились, забились, словно от ураганного ветра, огненные усы, и по краю реки, по измятому сухому песку берега, на котором ничком сплошь лежали люди, осыпью ударил убивающий металл.
Степанов стоял, плотно упираясь расставленными ногами в песок, как будто собирался устоять даже тогда, когда ударит в него снаряд. Приподняв левое плечо, наклонив голову, он из-под глыбастого лба, затененного козырьком фуражки, следил за каждым низко проносящимся, казалось лихо играющим силой крыльев, пулеметов и пушек, ревущим стервецом; он как будто закаменел под секущим воду и людей невообразимым проливнем. Он выстоял двенадцать огневых штурмов и, когда последний самолет ушел ввысь, оставив на земле замирающий вой, едва оторвал будто вросшие в песок ноги. Он еще плохо воспринимал обычные звуки, и странно было ему видеть, как беззвучно по всему широкому берегу поднимались живые солдаты, осторожными улыбками виноватясь перед мертвыми, в неловкости отряхивались, косились на небо, где после оглушающего рева, казалось, беззвучно ходили в высоте по кругу неулетающие самолеты.
Степанов снял фуражку, медленным движением провел ладонью по бритой, в струях нервного пота, голове. Голоса он уже слышал, но не мог понять совершенно новый здесь, на переправе, непривычно слабый звук. Он повернулся; взгляд его выхватил кромку берега и лежащую в воде, на спине, женщину; волосы ее, распущенные, почти белые, колыхались, темнея в приливах воды, колыхалась вместе с водой откинутая рука, глаза смотрели в небо. За женщиной, у бока ее, что-то слабо шевелилось.
Степанов подумал, что женщина еще жива и пытается рукой дотянуться до раны. Но взглядом, вдруг обострившимся до боли, заметил другие, маленькие руки, цепляющиеся за складки платья, лобастую голову с наплывом мокрых волос, глаза, распахнутые недоумением, растянутый в плаче рот и сквозь гуд, еще стоявший в ушах, услышал сам плач и разглядел всего младенца: суча голыми ножками, младенец выбрался наконец из воды и, цепляясь за платье и пачкаясь в крови, упрямо полз к безответному материнскому лицу.
Среди неподвижных лежащих в реке тел он заметил другое суетное движение — выбирался из воды мальчик с белыми, как у женщины, волосами, выбирался как-то странно, на боку, рывками поддергивая тело, обтянутое мокрой матроской и липнувшими, к телу короткими штанишками на лямках. Только теперь, когда мальчик выполз на мелкое место, Степанов заметил, что за мальчиком черным полотенцем тянется полоса крови, и, чувствуя, как каменеют виски и боль стягивает затылок, разглядел, что мальчик в синих штанишках ползет без ноги; ни гримасы боли, ни слез на белом лице, только испуг. Из последних сил он спешил доползти до матери и не дополз: руки подогнулись, он упал лицом в воду и уже не поднялся.
Степанов не успел ни сказать, ни приказать — лица солдат и командиров, бывших вокруг, поднялись к небу: снова приближался самолетный рев. Из круга, образованного шестеркой, один из самолетов снизился, шел над самой водой, ревом моторов глуша звуки земли, он как будто оглядывал содеянное, покачивал крылами, всем показывал свои черно-желтые кресты. Степанов увидел за стеклом кабины голову в шлеме, в квадратных очках, показалось даже, что летчик в очках удовлетворенно ему улыбнулся. Степанов перехватил эту улыбку тяжелым, страшным взглядом: рубец, которым он был отмечен еще в гражданскую войну, проступил и угрожающе багровел на крутом его надбровье. Случись кому-нибудь там, на мирной, обычной его работе, принять на себя подобный его взгляд — человек счел бы себя уже ненужным ни людям, ни делу. Но летчик, которого видел Степанов, был из чужого мира, он не был в его власти. Возможно, в какое-то мгновенье летчик тоже разглядел человека в фуражке, может быть, понял, что стоит у понтона командир, и, может быть, пожалел, что бомбы сброшены и все патроны расстреляны; он повернул лицо и поднял руку в перчатке. И Степанов понял этот жест уверенной в себе силы: летчик обещал возвратиться.
…Степанов молча стоял, чувствуя, что еще что не способен владеть собой. Все, что он видел за дни фронтового присутствия, что принимал как неминуемую жестокость войны, обретало иной смысл: прежнее понимание военных действий, с которым он пришел на войну, переставало в нем быть. Действительность оказалась страшнее: враг не различал войско и беженцев, солдата и младенца — он посылал огонь туда, где людей было гуще, он бил там, где можно было больше убить. Страшным своим взглядом он провожал самолет и, может быть, впервые до ясности прозрел тупую смертную силу, которая обрушилась на его Россию; и от мгновенного этого прозрения сдавило сердце сознанием долгой, кровавой, всеохватной, ничего не прощающей врагу войны.
Он овладел собой; увидел пробирающегося на мост с топором и лесиной уже выделенного им из всех прочих знакомого семигорского солдата Гожева, обратился к нему:
— Василий Иванович! Прошу вас: убита женщина, мать. Ребенка надо передать какой-нибудь женщине из беженцев. Видавшей горе женщине. Вы поняли меня?
— Как не понять, товарищ комиссар! — тоже не по-уставному отозвался Гожев. Положил лесину на понтон, топор заткнул за пояс, под висевшую на спине винтовку, в неторопливости направился к убитой женщине. Степанов и все стоявшие с ним рядом молча смотрели, как неспешно он подошел, с мягкой настойчивостью отцепил от материнского платья обессиленного криком младенца, обмыл ему ноги, прижал к себе, прикрыл бережливыми ладонями, обходя людей, тяжело пошел по растоптанному песку к лесу. Степанов проводил его взглядом, жестко глянул на стоявших вокруг командиров, стараясь удержать в себе пробужденную недобрую силу и все-таки чувствуя, как прорывается она в его напряженном голосе, отрывисто и четко приказал:
— Все пулеметы — «максимы» и ручные — поставить для стрельбы по самолетам! Все, сколько есть в наличии на берегу. На танки, на телеги, колеса, столбы, — но поставить! Дать огонь! Дать огонь! И никому у пулеметов не ложиться. Стрелять. Бить!..
Он помолчал, с трудом справляясь с ненужной в приказе яростью.
— Вам, капитан. Собрать все топоры и пилы. Взять людей. Валить лес и вязать плоты. Понтонами и переправой войск занимаюсь я. Переправляйте беженцев. Это люди. Это наши люди!..
Степанов повернулся и, зная, что слова, сказанные им, обернутся сейчас делом, не оглядываясь, стал пробираться краем забитого людьми наплавного моста туда, где саперы вместе с солдатами, неудержимо матерясь, тянули канаты, в который уже раз стягивая снова разорванные понтоны.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Годиночка
Трудно возвращался Макар обратной дорогой, к жизни, которую, казалось, навсегда оставил на выжженном июльским зноем бугре, в опахнувшей его бензиновой гари, под изламывающей тяжестью танковых траков.
В полузабытьи ощущал, как давила его земля, задыхался от ее тяжести; языком раздвигал губы, сквозь щелочку со свистом тянул воздух, загонял с клокочущим сипом в непослушную грудь; воздуха не хватало, и снова чужая сила тащила его к раскрытым вокруг черным безднам. Макар помнил, что сам избрал смерть и принял ее в окопе, на холме, близ незнакомой ему деревни, живущей последним мирным днем, и все-таки чувствовал блуждающую рядом жизнь. В смуте низко плывущего над черными безднами дыма время от времени различал малиновый огонь иван-чая, видел, как вздрагивал в пыльных всплесках земли и металла, клонился в ветровом вое пуль крохотный в зачужавшем пространстве земли цветок, и в благодарном чувстве спасения тянулся к его огню всем, что еще было в нем живого.