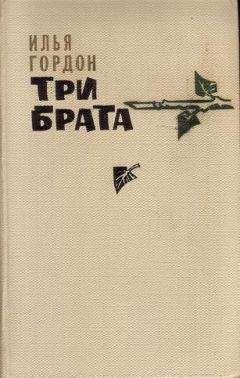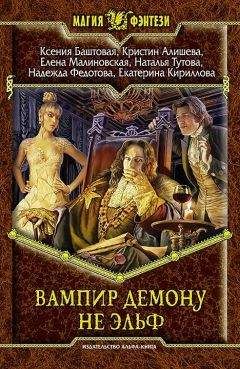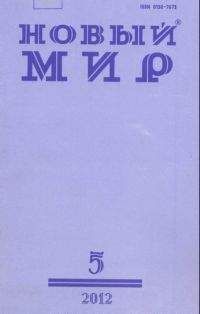Михаило Лалич - Избранное
— Стефан, бедолага, — говорит, — куда это тебя несет?
— Спроси тех, кто меня охраняет, — говорю, — они лучше знают… Я не по своей воле иду, а вот ты как здесь оказался?
Еду, говорит, из Цетинья, а направляюсь через Скадар в Андриевицу. Просил у губернатора помощи для голодающих. Если не помогут, мертвых будет не перечесть, сперва у беженцев, а там и среди остальных мор начнется. Обещали, но, сам знаешь, итальянские обещания гроша ломаного не стоят…
— Что это за новая мода? — спрашивает Станин. — Ездить из Цетинья через Скадар?.. Раньше такого не бывало. Разве нет пути покороче?
— Короче нет, партизаны перерезали…
— Помоги им бог!.. Хоть бы и этот перерезали, — так и норовит поддеть Станин.
Првош не хочет ссориться, пожимает плечами, спрашивает меня:
— Стефан, вы, наверно, голодные?
— Нет, сыты мы, да еще как, слышали ведь, что тебе там наобещали, — и не встаю с ящика. Кажется, стоит мне встать — сразу увидит, как я голоден.
— Вот горемыки! — говорит Првош.
Чудеса да и только — нашелся человек, который нас пожалел! Однако Стания жалости не выносит, взвилась, будто ей на мозоль наступили:
— Как сказать, горемыки мы или нет, но вот те, по чьей воле мы здесь очутились, будут горемыками, да еще какими!
— Я тоже так думаю, — соглашается Првош.
Переглянулись мы со Станией, уж не насмехается ли он над нами?.. Не похоже: на лице — ни тени издевки, стоит спокойно, лицо окаменело, словно вот-вот начнет оплакивать и тех, и нас.
— Если бы так думал, ты сейчас был бы с нами, а не с ними!
Я взглянул на нее: «Ну и Станин!»
— Неужто неправду сказала? Глянь, как у него шея покраснела!
— Погоди, Станин, не даешь по-людски слова молвить, — вставляю я.
— А я и не хочу с ним по-людски, с прихлебателем швабским!.. Хорошо им, лопают вволю, погляди, у него на шее жиру — свору собак прокормишь! А ты не встревай! — продолжает она. — Тоже мне адвокат нашелся! Повадились наши господа у кормушки топтаться, разве не так? Вот и он туда же — никто его не гнал в старейшины, мог бы дома сидеть да помалкивать…
Првош какое-то время молчал, раздумывал, стоит ли отвечать этой изнуренной голодом женщине. Наконец заговорил: он был вынужден согласиться, чтобы отплатить Расоевичам, принявшим как своих его родню — Маговичей из Рована и столько времени живших с ним по-братски, в мире и согласии. Вместе держали оборону, воевали, за это согласие пролили кровь, но вот пришла пора пожертвовать добрым именем, выбор пал на него, ему и приходится платить…
Стания не соглашается:
— Этим ты расплачиваешься с главарями, нахлебниками и дармоедами, теми, что привыкли брюхо набивать, — им ты заложил свое имя! А мы для тебя хуже Расоевичей?.. Разве мы не такие же?.. Значит, ты и нам должен, да побольше, чем им!..
— Верно, больше, — произнес Првош грустно. — Но для меня всех долгов многовато, вам отплатят добром те, кто помоложе. И хватит ссор, скажите лучше, сколько вас здесь?
— Немало, — говорит Стания и усмехается, — уж не хочешь ли каждому кофе заказать?
— Не кофе, а хлеба! От хлеба не отказываются, он — от бога.
Стания хотела было возразить, но вспомнила, какие мы голодные, и промолчала. И больше слова не обронила. Пошли мы втроем по пекарням. Првош расплачивался и за буханки, и за булки, и за бублики, скупил все, что нашлось, и оставил албанский город в этот день без хлеба.
Так мы прибыли в Скадар, сытые, повеселевшие, и потом с удовольствием вспоминали Пуку и ее пекарни…
А сверху дохлый пес
Десять дней — говорят, что десять, впрочем, так всюду и пишут, хотя, по-моему, больше, — шли ожесточенные бои под Мойковцем в апреле сорок четвертого года. Какой только силушки сюда не навалило, перемешалось все, перепуталось. В эту огромную мясорубку, окруженную горами, стекаются с одной стороны батальоны и бригады двух партизанских дивизий, а с другой — немецкий легион «Кремплер», полк «Бранденбург», два четницких милешевских корпуса и две белопольские бригады, беранская бригада, андриевичевская бригада, батальон недичевцев из Сербии, немецкие части из Подгорицы, с ними — четники из Лешкополя, Зеты, Куча и четницкий отряд Вукелича из Врмоши. Целыми днями ухают минометы, грохочет немецкая горная артиллерия, стягиваются подкрепления от Плеваля, Приеполя и Печи, прибывают подтянутые, а возвращаются распластанные. Прошлой ночью объявился тут один, до самой зари кричал: «Бросайте винтовки! Бросайте винтовки, не бойтесь!» На рассвете наши подстрелили его, он и замолчал. Казалось, конца этому не будет, но у них все же лопнула подпруга, заставили мы их удирать до самого Лима, жаль только, мне не дали налюбоваться тем, как они улепетывают, направили в Котурачу навести и поддерживать там порядок.
Поп Митар
Не могу сказать, почему выбор пал на меня, ведь опыта такой работы у меня совсем не было. Только и знал: кто порядок наводит, должен и прикрикнуть, и цыкнуть, и за решетку упрятать, и зуботычины раздавать налево-направо, чтобы пребывал в страхе тот, кто повиноваться отказывается, пускай хоть держится подальше. Еду я по Котураче, приглядываюсь к людям в деревнях, расспрашиваю, головой туда-сюда верчу, однако все напрасно, даже прикрикнуть не на кого!.. Господа, разная там реакция собрались и бежали в Подгорицу, прихватив с собой простофиль, что еще в деревнях оставались. Только поп Митар с попадьей не двинулись с места. Они, конечно, тоже реакция, пусть и не первого порядка, но до господ не дотянули, отстали на полпути. Тот факт, что не сбежали, еще не значит, будто они меня или наших поджидали, просто дом у них на отшибе, в сторонке, вот шайка в суматохе и не догадалась прихватить их с собой или не дождалась, когда они замешкались.
Поскольку телефон не работает, сообщаю своему начальнику Панто письмом с нарочным: «Тут остался поп Митар. Если он тебе нужен, давай пришлю. Можно и в Подгорицу турнуть, вся их братия туда подалась, а в общем, как скажешь». Панто отвечает: «Направь попа Митара в Никшичскую жупу [59]. В воскресенье в жупском монастыре состоится конференция православных священников, сторонников народно-освободительной борьбы, пусть на этой встрече представляет наш край. Убеди его в необходимости держаться как подобает и дай все, что ни попросит. Что есть — дай, а чего нет — обещай».
Приказ краток и ясен, размышлять тут вроде бы не о чем, однако мысли сами собой в голову лезут: «Рискованно посылать попа Митара. Никогда он на нашей стороне не был, да вряд ли и будет. Жена у него из семьи Божичей, что с самим богом в родстве состоят, брат родной — митрополит Божич, о нем ничего не слыхать, неизвестно, на чьей стороне, но уж наверняка не к нашему берегу прибился. К тому же есть у попа Митара брат Якша, летчик, капитан или майор, человек решительный, но и дурной, одержимый, предан королю и всему, что с ним связано, — на своем самолете перебросил королевское правительство, иначе говоря министров, в Каир, в эмиграцию, да там и остался. Из-за него поп Митар, даже если б захотел, вряд ли решится голосовать за нас…»
Раздумываю так, но в то же время прикидываю: Панто не хуже меня знает, что поп Мнтар отшатнется от нас, едва появится возможность переметнуться, и мое дело выполнять приказ, а не мозговать обо всем этом. Пусть едет, и будь что будет! Большой беды ждать не стоит. Даже решись поп Митар брякнуть что-нибудь невпопад, найдутся наши, которые такой шум поднимут, что его и не услышат. Да и вряд ли он пойдет на это, давно привык петь хвалу и правительствам, и еретикам — всем без разбору. Упорствовать же наверняка не станет, побоявшись, как бы хуже не было. Так между делом я ему и сообщил: мол, в жупе собираются черногорские священники, будут решать церковные вопросы, а может, и о зарплатах и пенсиях речь зайдет… Не упоминаю, что они — наши сторонники, да и кто знает, чьи они, — документы у них не проверял, но поп Митар и без того догадывается, поэтому сразу начинает отнекиваться: охотно поехал бы повидаться со знакомыми и коллегами — это помогло бы ему сориентироваться в сложной обстановке, и очень-то ему жаль, но не может…
— Что тебе мешает? — спрашиваю его.
— Ноги отказывают. Не могу к реке сходить, куда уж там в жупу.
— Дам тебе коня, поезжай!
— Спасибо за коня, но не только в этом дело. Туда следовало бы явиться одетым как подобает, а ты посмотри, на мне уже все пообносилось. Колени из штанин вылезут, не успею до жупы доехать. Да и обуть нечего, кроме вот этого, — и задирает ногу, показывает дырявую подошву.
— Если решишься ехать, — говорю ему, — устраним эту проблему. Есть кое-что из одежды на складе, подыщем и обувь. Не можем допустить, чтобы из-за мелочей на такой сходке не услышали голос нашего края и его духовного представителя.
Тут он смекнул, как я заинтересован в том, чтобы его послать в жупу, и давай цепляться то к одному, то к другому, лишь бы не ехать. Выдумывает всяческие причины: и дорогу-то он не знает, и засады боится, и хлеба-то у него нет, с собой взять нечего, наконец, больна попадья, не может-де оставить ее одну. Нашел ему проводника, дал вооруженную охрану, приказал испечь хлеба в дорогу, прислал из деревни вдову ухаживать за попадьей — одним словом, еле-еле выпроводили его.