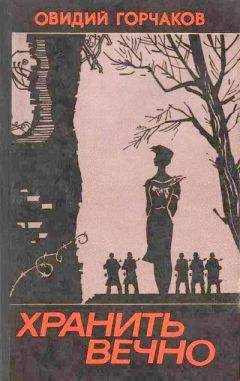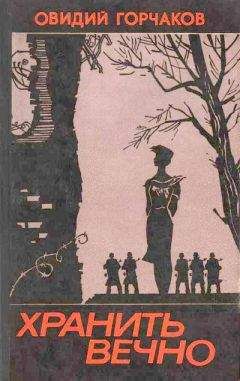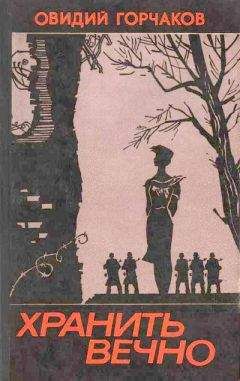Овидий Горчаков - Вне закона
— Вот именно! А как решиться на такой шаг без приказа из Москвы?
— Значит, необходимо получить такой приказ.
— Но как? — чуть не вскрикнул я.
— Надо улучить выгодный момент, — медленно произнес Смирнов (я слушал Смирнова затаив дыхание), — когда Студеникин уходит с радиостанцией в лес. Он часто работает в разных концах леса, чтобы затруднить немецким пеленгаторам засечку радиостанции. Мы вызовемся охранять его, потом заставим передать в Москву радиограмму с полным описанием положения в бригаде. Потребуем немедленный ответ…
— Ответ пришлют через сутки. Пока с радиоузла до начальства дойдет…
— Что ж, будем ждать. С радиста придется не спускать глаз.
— Юрка! Так это же гениальный план! — воскликнул я, едва удержавшись, чтобы не хлопнуть раненого по плечу.
— План имеет свои недостатки, — усмехнулся Смирнов. — Студеникин может не удержать язык за зубами. Тебе, правда, известно, что он пытался рассказать Большой земле о гибели Иванова… А я вот слышал, что он передал без звука завышенные, очковтирательские сведения о немецких потерях — в Никоновичах, например…
— Так я и позволю ему выдать нас! Да я…
— Радиста нельзя трогать. Бригада не должна терять связь с Большой землей. Студеникина я возьму на себя. Ты дашь мне свой наган.
— Постой! Да ты ведь даже ходить как следует не можешь!
— Смогу, раз нужно.
— Но почему вдруг ты, а не я?
— Если Студеникин решит выдать меня Самсонову и я не смогу его удержать, то…
— Тогда что?
— Тогда я беру на себя всю ответственность и…
— И выгораживаешь меня? Тебя расстреляют.
— Это будет дельная и быстрая смерть.
«Дельная смерть»!..
— Но это не все… Это опаснее любого боя с фашистами — в бою рискуешь только головой, а тут и честью… Тебя объявят изменником, сообщат Москве, родителям. Тебя проклянет мать…
— От этого зависит судьба бригады. Вернешься в Москву, расскажешь маме, расскажешь всем.
— Не согласен… Спасибо за совет. Я сам все сделаю.
— Глупости. В конце концов, я не проживу больше двух месяцев. Это мне доподлинно известно. И тебе тоже. Юрий Никитич слишком громко тогда разговаривал с тобой…
— Тем более…
— Ерунда! Ты еще немало гитлеровцев перебьешь, а моя песенка спета. Значит, завтра?
— Завтра. Только нам нужно обязательно посоветоваться с членами партии. Когда мы вместе — Самсонов ничто против нас.
И как ни в чем не бывало Юрий Смирнов снова заговорил:
— Ты знаешь, я все сильнее убеждаюсь: война не прервала нашу борьбу за построение коммунизма в нашей стране. В этой войне наше поколение как бы самостоятельно проделывает, повторяет путь нашей партии: одни бьются на фронтах с интервентами, а другие — мы, партизаны, — к тому же еще воюют со старым миром бургомистров, кулаков и урядников, помещиков и фабрикантов… Война ускорит рост сознательности, выработает у миллионов такой опыт, такие знания, такое чутье, что если и придется нам в будущем воевать, то уже без предателей и без самсоновых и без самсоновцев — Кухарченко и Гущина — хороших солдат, но плохих граждан… Война нас многому научила. После бури дом строят крепче. И мы себе такой дом выстроим — все волки на свете зубы об него обломают, если только полезут.
На острых скулах Смирнова, на его лице, когда-то девически нежном, а теперь смертельно измученном болезнью, проступил фарфоровый румянец. Воротник гимнастерки расстегнут, под тонкой, длинной шеей с голубыми жилками торчит, как ручка чемодана, хрупкая на вид ключица, виднеется впалая, ребристая, болезненно> бледная грудь, наискосок перетянутая стираным перкалевым бинтом… А какое корчагинское мужество живет в этом пареньке, какая таится нравственная сила!
— А ты думаешь, нам опять воевать придется? — спрашиваю я своего нового друга.
Ясно одно: или человек уничтожит войну — или война уничтожит человека…
И долго еще вели мы этот разговор, дружеский, задушевный и порой путаный — обыкновенный разговор о вещах отвлеченных двух юношей, стремящихся докопаться до самой сути вещей, дойти «до корня».
2В тот же вечер, после передачи «Последних известий» («Не сдадим врагу Сталинград!..»), я попробовал еще раз подступиться к радисту.
— Отцепись, своя голова дорога! — отмахивался от меня Студеникин. Но секретами Ванюшка любил делиться с приятелями. — Задумал хозяин переименовать отряды, а то «Центру», говорит, не понравятся безыдейные птичьи названия… Хозяин подготовил новый приказ и радиограмму. «В связи с боевым крещением бригады в целом в недавних боях по разгрому вражеских гарнизонов и по просьбе партизан приказываю впредь именовать отряды: «Сокол» — отряд имени Берия, «Орел»— отряд имени Молотова, «Ястреб» — отряд имени Ворошилова», и так далее. А бригаде присваивается имя Сталина!.. Завтра сам на общем построении объявит…
Слух о новом приказе сразу же облетел весь лагерь, как дым от сырых дров в костре в ветреную погоду. За ужином, аккомпанируя себе на баяне. Баламут горланил частушку на злобу дня:
Вот так фанаберия.
Мы в отряде Берия!
Но новый приказ Самсонова так и не был объявлен.
Каратели
— Немцы!
Слово это разом срывает с меня теплое одеяло сна, окатывает ледяным душем тревоги. И вытянутое, скуластое лицо Баженова, и тишина пасмурного утра, воздух в палатке, зябкий, сырой, и все, что привык я видеть, открывая каждое утро глаза, — мгновенно наполняется затаенной угрозой, кажется незнакомым, чужим. В треугольном проеме палатки недвижно и плоско сереют в белесом туманце сплющенные в кляксы кусты… Откуда-то доносится слабый зыбучий шорох, далекое журчанье, похожее на шум дождя. Стреляют! Стреляют на западе, не ближе Дабужи.
— Только что с заставы прибежали — эсэсовцы зажучили фроловцев в Трилесье… Первым делом разорили могилу того парня — помнишь, хоронили месяц назад? Каратели к лесу валом валят… — говорит Баженов с неправдоподобным хладнокровием, лицо его слишком бесстрастно.
Резкое движение левой руки прокалывает плечо острой болью, заставляет выругаться про себя. Мелькает малодушная мыслишка: забраться с головой под новенькую, еще пахнущую чистоплотным немцем шинель в шалаше, забыться, переспать все эти неприятности. Зачем разбудил меня Баженов? Может быть, немцы постреляют и уйдут?.. От мысли этой становится смешно. Но ненадолго.
Что ж, мы ждали этого три месяца. Обманчиво, недолго партизанское приволье.
Бурмистрова и Казакова, моих соседей по палатке, тоже поднимает удушливое беспокойство, накалившее воздух. Мы проворно выползаем из палатки. Дождь, надвигающийся на Хачинский лес, страшный, выдуманный человеком дождь, капля которого, самая малая, весит девять граммов, не унимается, а усиливается. Уж можно различить в сплошном шуршании отдельные хлопки — не то мин, не то снарядов.
В хмуром свете хмурого утра — хмурые, озабоченные лица партизан. На лицах этих нет страха. За три месяца партизанской жизни люди научились скрывать свои чувства, управлять ими. Но во всем сквозит тревога — даже в том, как Блатов мажет дегтем тележные оси и втулки.
Мне не стоится на месте. И я хожу от шалаша к шалашу, часто попыхиваю цигаркой, наблюдаю.
У штабного шалаша — Самсонов, Перцов, Ефимов, Кухарченко…
— Не нужны ни окопы, ни дзоты! — разносится по лагерю зычный голос Самсонова. — Я не пущу их дальше опушки!
У шалаша минеров — Барашков, Гаврюхин, Шорин… Ждут. У землянки боепитания выстроилась очередь за боеприпасами. Бесшумно принимают «цинки» с патронами, гранаты, тол… Слушают, боясь сделать лишнее движение. Ждут. Повар заливает водой костер. Дым тихо, по-кошачьи извиваясь, поднимается выше самых высоких деревьев, выше дуба над штабным шалашом. Слышно, как шипят в костре угли, как беспокойно топчутся кони на речном берегу. Люди умело скрывают волнение. Волнуются и ждут. И все думают одно: «Что творится там? Пустим ли мы немцев в лес? Почему командиры ничего не делают? О чем думает Самсонов?»
Сегодня 3 сентября. Сейчас около девяти утра. Чем-то закончится этот день, так грозно начавшийся? Третье сентября… Ровно три месяца назад в Москве, на аэродроме, ждали вылета одиннадцать человек. И тоже разговаривали почему-то шепотом, и негромкий смех звучал натянуто, неестественно. Три месяца! Недаром они прожиты. Не так уж много воды протекло по Ухлясти под Горбатым мостом за эти три месяца! Но они стоят всей моей прежней жизни.
— Пошли на речку, — зовет Баженов. — Наведем красоту — скоро гостей встречать. Да-а-а, кончилось наше лето на даче…
— Пойдем, — немедленно соглашаюсь я, радуясь тому, что отвлекусь немного от ожидания надвигающейся опасности. Душу оно выматывает, это ожидание!..