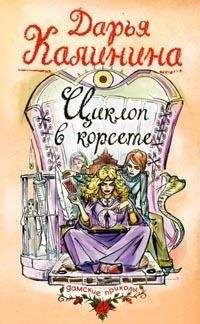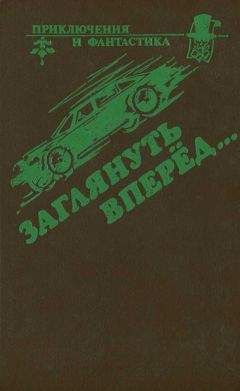Константин Симонов - Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)
Когда он подошел ближе, она, до этого неподвижная, сорвалась с места и, пробежав несколько шагов, обняла его, закинув ему за спину левую руку с сумочкой, а правой, как потерянного ребенка, обхватив за голову, ткнулась губами в губы, в щеку и снова в губы и, уронив голову ему на плечо, горько – так ему показалось – горько – заплакала.
– О чем вы плачете? Я так рад вас видеть, – сказал он.
– А я тебя, – сказала она, продолжая плакать.
И только тут он опустил на землю вещевой мешок и чемодан и обнял ее, одновременно ощутив, как она крепко прижалась к нему грудью, и почувствовав своими, прикоснувшимися к ее спине пальцами, как она похудела.
– Зачем же вы плачете? – все еще на «вы» повторил он.
– Я так боялась, что тебя убили. Никогда еще так не боялась, – сказала она и, оторвавшись от него, неловко шмыгнув носом, ладонью вытерла слезы и снова подняла на него свои, уже не заплаканные и постаревшие, а прежние, чуть-чуть прищуренные, готовые улыбнуться, глаза.
Он оглянулся и увидел Петра Ивановича, который с чемоданом у ног и вещевым мешком за спиной, насмешливо скрестив руки на груди, стоял и ждал, что будет дальше.
– Познакомься, моя жена, – неожиданно для себя сказал он Петру Ивановичу, глядя в глаза Нике и не испытывая чувства вины перед ней за свою внезапную решимость.
– Очень приятно, – церемонно поклонился Петр Иванович и протянул ей руку.
Но она сказала: «Сейчас!» – и стала рыться в сумочке и, только вытащив оттуда платок и еще раз вытерев заплаканное лицо, подала руку.
– Здравствуйте.
– Белянкин, Петр Иванович, – все так же церемонно сказал Петр Иванович, пожимая ей руку.
– Спасибо тебе, Лева, что встретил! – сказал Лопатин и обнял Степанова, который до этого выжидающе стоял поодаль и лишь теперь подошел к ним.
– Это вам спасибо, Василий Николаевич, что вернулись с того света в наши редакционные объятия. И притом в полном порядке, – улыбаясь, сказал Лева. На разницу в возрасте в редакции не взирали, и он был один из немногих, кто звал Лопатина на «вы».
– Поехали! Редактор приказал прямо к нему.
– Меня до «Известий», рассчитываю, по дороге подбросите? – спросил Петр Иванович.
– Если обещаете фитилей нам не вставлять, подбросим! – сказал Лева Степанов.
– Какие там фитили! Разное видели, о разном и напишем.
Пристроив в ногах чемодан и вещевой мешок Лопатина, втроем втиснулись на заднее сиденье «эмки», а Петр Иванович с его здоровенным вещевым мешком, который он переложил себе на колени, сел вперед. За рулем оказался сам завгар редакции Капитонов.
– Видите, с каким почетом вас встречаем, – сказал Лева Степанов.
– Все в разгоне, – объяснил Капитонов. – Звонят «давай», а ни одной машины! Принимал эту от слесарей из ремонта – прервал и поехал. Чего-то мне у ней левая рессора не нравится. – Человек самолюбивый и притом имевший звание техника-лейтенанта, завгар счел нужным сначала объяснить, почему оказался за рулем, и лишь после этого спросил: – А как там Василий Иванович? Не пострадал?
– Не пострадал, – сказал Лопатин, после этого вопроса окончательно поняв, что о случившемся с ним уже известно в редакции. – Кстати, отдайте его семейству. – Протянув завгару записку Василия Ивановича, он виновато, напоминая о себе, прижался плечом к плечу Ники, тепло которого все время чувствовал.
Пока ехали от аэродрома до Пушкинской площади, Лева Степанов объяснил, как вышло, что они его встретили. Оказывается, Гурский вчера же утром, едва проводив Лопатина, отбил с узла связи штаба фронта подробную телеграмму редактору обо всем происшедшем и сообщил номер борта самолета.
– Вчера я один ездил встречать. Нину Николаевну не брал с собой, только позвонил – Гурский мне ее телефон дал. А сегодня вместе поехали, потому что – наверняка. Это вам повезло, что с их начальником тыла летели; в таких случаях они тут на месте все знают, не как с нами, простыми смертными, когда мы летаем. Позвонил им, заехал за Ниной Николаевной, и вышла встреча, я считаю, по первому классу, – сам завгар за рулем! Нина Николаевна в момент собралась, по-военному. Подъехал, а она уже внизу ждет! – улыбаясь, добавил Лева, которого по молодости лет бескорыстно веселило, что их старого хрыча Лопатина сегодня встречала, обнимала и целовала на аэродроме эта не такая уж молодая, но все же сравнительно молодая и еще красивая женщина.
Лопатин вспомнил, как тогда, летом сорок второго, этот же Лева Степанов сочувственно смотрел на него, когда он принес ему заверить подписью и печатью свое согласие на развод с Ксенией.
– Вот вы меня сейчас подвозите, – когда они уже приближались к Пушкинской площади, сказал Петр Иванович, – а я вспомнил, как в сорок первом, зимой, ваш редактор рано утром сам приехал на этот аэродром и лично пристроил лететь под Елец, на Юго-Западный, вашего корреспондента. Я к нему: «Товарищ дивизионный комиссар, помогите, мне тоже до зарезу нужно!» А он мне: «Вот когда перейдете к нам в «Красную звезду», товарищ Белянкин, на что заранее согласен, тогда и буду вас в самолеты сажать. А пока что позвоните вашему редактору, разбудите, пусть встанет с постели, сам приедет и вас устроит».
– Да, – сказал Лева Степанов, – это было в его духе. Теперь это у нас все в прошлом.
«Эмка» остановилась у Пушкинской площади, и Петр Иванович, уже вылезая, сказал Нике:
– Смотрите не забудьте вы, а то он забудет: у него там в сидоре котелок с грибами. Пожарьте сегодня, до завтра пропадут.
– Будет сделано, – сказала Ника.
– А котелок пусть возвратит. Котелок мой. Напомните ему.
– Обязательно напомню, – сказала Ника с той, сближавшей их с Лопатиным обыденностью, словно это все само собой и разумелось.
Петр Иванович, закинув за плечи вещевой мешок, пошел через улицу Горького к «Известиям», а «эмка», один раз уже пропустившая зеленый свет, снова стояла перед красным.
– Сейчас мы вас подкинем, – сказал Лева Степанов Нике.
– А вы знаете, не надо. Поезжайте прямо в редакцию, раз вас редактор ждет, а я сойду и пойду, мне совсем близко. А ты позвони сразу, как освободишься, хорошо? И пропустите меня, а то я через вас не перелезу.
Они вылезли и пропустили ее.
– Только вот что, – сказала она, уже стоя на тротуаре. – Грибы мне дай с собой. Где они?
Лопатин послушно развязал мешок и отдал ей котелок Петра Ивановича.
– До свиданья. Спасибо вам большое за все, Лев Васильевич. И вам тоже спасибо, – кивнула она Капитонову и, взяв котелок и сумочку, не оборачиваясь, пошла своей, знакомой Лопатину, особенной, быстрой походкой.
По лицу Левы было видно, как его подмывает спросить, действительно ли эта женщина выходит замуж за Лопатина, но Лева не спросил, удержался.
– Когда будете отдавать письмо домашним Василия Ивановича, – сказал Лопатин Капитонову, – объясните, что я сам на этих днях зайду, расскажу им про него.
– Что, подружились с ним за эту поездку? – спросил про Василия Ивановича Лева Степанов.
– Представь себе.
– Вы с ним или он с вами?
– Представь себе, и я с ним, и он со мной.
– По-моему, вы первый, во всяком случае, у нас в редакции.
– А наша редакция еще не весь свет, – сказал Лопатин.
Когда приехали в редакцию, оказалось, что редактора нет на месте: его неожиданно вызвали к начальству, но он уже звонил оттуда, спрашивал, не появился ли Лопатин, и сказал, что выезжает и будет через двадцать минут.
Эти двадцать минут ушли на хождение по редакционным коридорам, расспросы и разговоры о том, что же там, собственно говоря, произошло с Лопатиным и как именно он чуть не отдал богу душу. Один из спрашивавших поинтересовался, цел ли редакционный «виллис», будет ли на чем ездить Гурскому.
– Вот видишь, какой ты тип, – усмехнулся Лопатин. – Наш Капитонов тебе несколько раз по канистре бензина недодал, считал, что сам добудешь, и он у тебя за это – уже казенная душа! А между прочим, эта казенная душа – цел ли «виллис»? – меня не спросила, спросила только, цел ли Василий Иванович. – А ты, наоборот, не казенная душа, а инженер человеческих душ, но спрашиваешь про «виллис», а не про человека.
– Ну и ну, наш Капитонов – и вдруг про «виллис» не спросил! Согласись сам, что это удивительно!
– Соглашаюсь – удивительно! А что это за люди, в которых нет ничего удивительного! О таких не только писать, а и думать-то неинтересно.
– Ладно, посмотрим, что ты найдешь удивительного в нашем новом редакторе.
– Что-нибудь да найду. – Лопатин пошел дальше по коридору навстречу новым расспросам. Он чувствовал по ним, что на какое-то короткое время после телеграммы Гурского стал здесь в редакции героем дня, которого только что, и притом уже второй раз за год, чуть не убили. Он сознавал смешную сторону своего положения, но все равно сердце глупо екало от бессмысленной гордости, испытываемой человеком, про которого говорят, что его «чуть не убили». Екало, хотя он понимал, что слова «чуть не убили» – одни из самых бессмысленных, потому что всех, кто за три года войны так или иначе бывал под огнем, уже по многу раз «чуть не убили». Только иногда, как сейчас с ним, это бывало для всех очевидно, а гораздо чаще так и оставалось никому не ведомым. Откуда ты можешь знать, почему за километр или за два от тебя кто-то взял не ту, а эту поправку к прицелу или нажал на педаль бомболюка на полсекунды позже, а не раньше; и это и есть то самое «чуть», из-за которого один продолжает жить, а другой – нет.