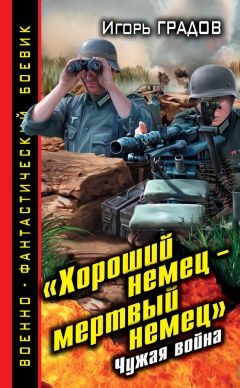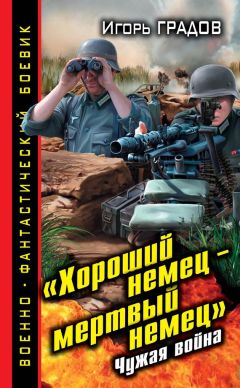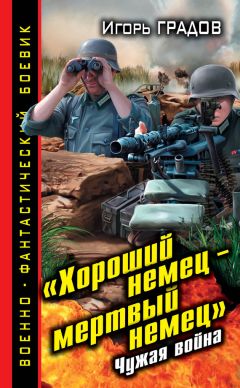Юрий Щеглов - Святые горы
Офицеру нельзя было дать и двадцати пяти лет. Не хрупкого сложения, большеногий и глазастый, с чувственными вишневыми губами, но с непривлекательной и какой-то серой физиономией моськи. Лоб и щеки у него нет-нет да заволакивало облачко, не разберешь какое. Художник коснулся взором поляка и плавно задвигал грифелем по листку. Офицер принял картинную позу, опершись на пику, и посмотрел вдаль на петлями ускользающую каменистую дорогу. Наконец, решив что-то, после того, как грянул залп, оборвавший жизнь дерзкого шутника, офицер, не торопясь, пошел к двери, подхватив пику наперевес — туда, где под синей косой тенью замер художник. Тот встрепенулся и отпрянул поглубже в нишу, метнув из-под полей шляпы массивный, будто артиллерийское ядро, взгляд.
Поравнявшись, офицер покосился, пытаясь засмотреть через плечо. Ему удалось увидеть наброски, благодаря тому, что испанец не захлопнул трусливо альбом. «Ба! Да он прекрасный художник!» — пронзило мозг офицера.
— Правильно, я художник, — с достоинством ответил незнакомец, каким-то волшебным образом услыхав восклицание.
В те времена никому не хотелось вступать в спор с озверевшей солдатней. Чего доброго вырвет альбом, изорвет в клочки или швырнет в костер. Присутствовать при гнусной расправе и потерять эскизы — свыше его сил. Карандаш — единственное оружие, которым он владеет, и единственное оправдание жизни под французским каблуком. Офицер опять скосил маслянистые глаза, а художник исполненным спокойствия жестом вторично подставил ему альбом. Тем, вероятно, и должно было кончиться. Но тем не кончилось, и нелегко объяснить почему.
— Так вы художник, сударь? — воспользовавшись крючком, громко спросил офицер на беглом, но нехорошем французском.
— Да, живописец и гравер.
Художник говорил по-испански. Пожалуй, нелишне запечатлеть жадноватые рельефно очерченные губы и крутые брови на покатом бледном лбу.
— Разве это красиво? — усмехнулся офицер и по-лошадиному мотнул головой в сторону канавы. — Художник обязан отражать красоту мира. Что вас привлекло?
Едва ли точно поняв, мрачный собеседник совершил полукруг рукой, долженствовавший означать: все! все происшедшее! все окрест!
— И приговор? — удивился Тадеушек.
Он явно не желал называть вещи своими именами, быть может, стесняясь жестокости сотоварищей.
— Да. И убийство, — поправил художник.
— Почему?
Он до самой старости — там, в Карлово, в Остзейском крае — так и не сообразил почему. Он шагнул в тень и, царапая концом пики по стене харчевни, протиснулся за спину, чтобы получше разглядеть рисунок. На развороте изображалось действительно все! И бешеная атака кавалеристов, и свисающий из окна вниз головой мертвец. Франсуа, глотающий воду, с оскаленной и мохнатой от пышных усов пастью. С особенной тщательностью художник запечатлел, как уланы, опустив набрякшие багровые морды, ищут в колодце клад, поочередно бросая туда пулю, привязанную к веревке и облепленную смолой. Расстрел Жилетки, Веселого и Навоза, и даже то, как их позже волокли за ноги — оглоблями — к помойной канаве, живо предстало перед офицером. Шероховатую бумагу заливал ослепительный, сияющий белизной свет. Густая черная кровь, будто художник помакал грифель в железной оправе в открытые раны гверильясов, стекала с края листа. Зачем злодейство увековечивать? Проще, наоборот, стереть из памяти, забыть. Офицера шатнуло в бок, и он прикрыл узкой ненатруженной — писарской — кистью лицо.
— Что вы в Испании потеряли, юноша? — отважно и резко спросил художник.
— Як приговору, — и Тадеушек тоже попытался очертить полукруг, — не имею отношения. Я служу императору и королю. Но я против гверильи. Я профессиональный военный и не признаю иррегулярных соединений. Они вне законов войны.
Полукруг получился похожим, скорее, на квадрат.
— Вы против гверильи? Мы все здесь гверилья-сы, — и художник нахмурился. — Целый народ гверильясов. Проваливайте отсюда, убирайтесь. У вас физиономия… — и он на мгновение запнулся.
Художник желает оскорбить его и сравнить с каким-то неприятным животным?
— У вас физиономия иностранца, которого заждались родители.
— У меня нет ни матери, ни отца. Я мечтал путешествовать, но я не хочу сдохнуть от удара навахой из-за угла. Император действует мудро, штыком перекраивая старый порядок вещей в Европе.
— В Европе? Скорее, в растоптанной Испании. Человек, если он человек, не имеет права покидать родину иначе, чем с миссионерскими целями. И на берегах Тахо вы не добудете свободы для своей!
Фраза прозвучала высокопарной, и художник поморщился, но она все-таки передала то, что он намеревался сказать. Офицер хмыкнул и с необъяснимой тоской погрузил взор в фиолетовое от жары пространство. Он никогда не грезил ни о свободе, ни о родине. Слова художника рассердили его. Он мечтал совсем о другом. О сытной и пряной пище. О стройных и мускулистых андалузках со сладострастно пляшущими бедрами. О не очень рискованных приключениях. О сверкающих на солнце орденах. О расшитых, как парча, мундирах. О маленьком, но ухоженном именьице на берегу бутылочного цвета реки, близ пахучих хвойных лесов. О красивом, с осенней желтизной винограднике на пологом склоне величавой Луары.
Проклятье! Испания ничего ему не дала. Какой нелепый человек с альбомом! Все обманщики, вербовщики Сюшета. Хлопицкий! И самый омерзительный из них — надменный корсиканец! Корсиканцы, сыны народа-лилипута, чужая кровь им — что? Что им гектакомбы трупов?! Все! Император — паршивец! Однако надо выжить, выжить! В иссушающей мозг голодной жаре. Надо напиться, насытиться впрок. И долой отсюда! Долой! Обманщики! Весь мир — обманщики! Назад, в Польшу, на родину! В прохладу! Да здравствует Варшава!
А художник думал о своем. Он думал о Жилетке, Веселом и Навозе, которые больше не выберутся из помойной канавы. Он думал о чистом черном — испанском — цвете грифеля. На бумаге цвет отливал красным. Он думал о янтарном, как спелые хлеба, мадридском солнце. Он думал и о лице назойливого собеседника. И еще он думал о том, что землю, как и людей, мучит жажда, а хрустальная вода вот сейчас потечет из кувшина в зловонные пасти солдат. Он защелкнул замок на альбоме и скрылся в дверях харчевни. Д’Обервилль крикнул, перегнувшись через перила:
— Булгарин, я вижу вам скучно. Поспешите в штаб с колонной и доложите генералу, что мы задерживаемся.
Подцепив к луке седла пику и проклиная французское высокомерие, Тадеушек махом вскочил в седло и, не оборачиваясь, поехал прочь. Перед ним с пригорка расстилалась тихая равнина. Нескончаемое растрескавшееся от зноя пространство, с круто выгнутым, как кошачий хребет, горизонтом. Он участвовал в карательной экспедиции впервые и после расстрела гверильясов не на шутку испугался. Здесь шла иная война, чем та, к которой он привык, и пора уносить ноги. Он вонзил шпоры в бока кобыле. И весь оставшийся путь да, пожалуй, и всю остальную жизнь его гнал вперед лишь страх, когтистый, терзающий внутренности страх, и то, что теплилось в нем человеческого — человеческое-то существовало, не отнимешь! — исковеркал этот жгучий испанский страх, который, как испанский сапог, теснил сердце.
Художник следил из окна за непропорционально длинной спиной удаляющегося всадника. И — о, непостижимый мир! — под белым жабо в истерзанной груди не нашлось и крупицы ненависти. Клубящаяся фиолетовым даль навеяла художнику воспоминания о зубчатых дворцах Мадрида, с четким силуэтом, будто процарапанным на плоском от жары небе, как на гравировальной доске. Боль, слезы и желание отомстить за поруганную родину, за Жилетку, Веселого и Навоза — все, решительно все улетучилось из сознания, ибо он сосредоточился на главном — на композиции убийственного для захватчиков офорта, пока безымянного. Мохнатые пасти… Ружья, уланские пики… Ноги и головы, торчащие из помойной канавы. Или — повремените секунду! — канавы не будет, а будет иссохшая — ни травинки — и заляпанная кровью почва. Справа гора трупов в нищенском одеянии. В глубине фантастическое чудовище с обезумевшим взором и перепончатыми крыльями, осеняющими зловещую картину. Яркое созвездие причудливых и капризных образов разбила нечесаная малышка в засаленном платье. От ее робкого прикосновения художник очнулся.
— Добрый синьор Гойя, — пролепетала она, — отец вас просит сойти. Игнасио запряг лошадей в карету.
19
— Если дуэль вопреки данному мне слову все-таки состоится, — начал царь, — то не миновать камер-юнкеру Пушкину восьмилетнего срока церковной епитимьи. Кстати, где наметили сшибку?
— На Черной речке, — опередил остальных Дубельт.
— В Екатерингофе? — спросил царь.