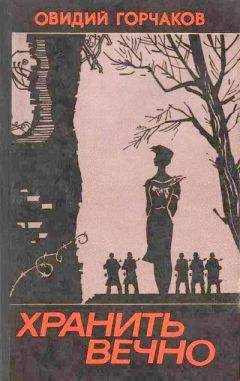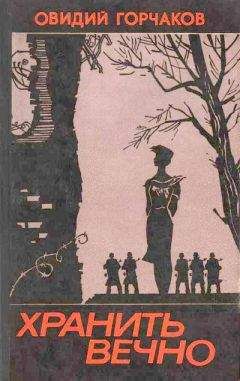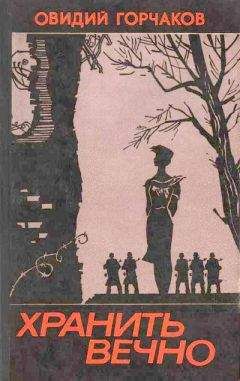Овидий Горчаков - Вне закона
За Хачинским лесом разгоралась заря. Четырнадцать наших товарищей не увидели этой зари.
Пятнадцатый умирал медленно, мучительно.
…Сквозь зеленое полотно палатки просвечивает полуденное солнце. Иногда облако скрывает солнце, и тогда все в палатке тяжелораненых — два самодельных топчана, одноногий столик, заставленный котелками и кружками, — погружается в зеленоватый сумрак. Душно, пахнет прелой листвой.
Ближе, ребята… — шепчет Покатило. Юрий Никитич — в который раз — машинально щупает пульс.
— Говори со мной! — приказывает мне Сашко слабеющим шепотом. — Точно голодный волк кишки грызет!.. Ты москвич… Гак и не довелось мне… Красная площадь, Кремль… А все-таки, дытыно, так лучше, чем от своей пули… Говори!..
— Думаем, Сашко, по Пропойску ударить, — начинаю я.
— Сплоховал я, — скорострельно выпаливает вдруг Сашко, перебивая меня, — Непротивленцем, дурень, заделался, по-унтерски понял солдатский долг. Мне товарищи объяснили: приказ командира не освобождает от ответственности, а то и гитлеровцев мы не можем винить. Запомни, это очень важно.
— На таких, как я, и держался Самсонов. — Он берет мою руку. — Надо бороться, бороться! К черту собачью преданность!..
Входят Самарин, Кухарченко, Щелкунов, Терентьев — второй номер Покатило, Аксеныч. Покатило был у Аксеныча пулеметчиком. Был!.. Самарин наклоняется над Покатило и говорит:
— Радист передал Москве… В Никоновичах мы уничтожили штаб, автобазу, казармы и дзоты немцев… Сожгли склады, грузовики, подорвали бронемашину… Взяли ценные документы, уничтожили много оружия, боеприпасов, батальонный миномет, захватили один станковый и девять ручных пулеметов, много продовольствия и других трофеев… Убили около сотни фрицев и полицейских, около пятнадцати офицеров, одного полковника…
— Здорово! — шепчет умирающий. — А ведь стоило, а?.. Все-таки за эту войну фашистов двадцать я уложил…
Лицо умирающего озаряется слабой улыбкой. Но потом он снова начинает стонать. Глаза, тающие карие украинские глаза затягиваются дымкой, густеет под ними смертная синева, совсем тонет их живой блеск в темных провалах глазниц…
Кухарченко пробует разрядить непривычную для него неловкость веселой шуткой, но шутка оказывается мертворожденной. А Юрий Никитич, всегда такой спокойный, уравновешенный, сейчас совсем не похож на себя. Правда, с тех пор как он узнал о гибели сестры, он улыбается людям только профессиональной своей, докторской, улыбкой. Сашко стонет, мучительно и страшно, и Юрий Никитич бросается к нему. Сашко начинает говорить, и все подходят ближе. Я спускаю босые ноги с койки и тоже подхожу ближе. И вижу — он умирает. Но он говорит еще… Хрипит сквозь зубы — стиснутые последним усилием, покрытые кровавой ржавчиной зубы:
— Хлопцы! Как на духу… С дружком в стог забрались, немец нас сонных схапал, ведь раненый я был. А из лагеря смылся сразу, лопатой — часового… вот и весь плен мой. Ведь я партийный! И плен вдруг. Хлопцы! Я с вами партизанил, мстил… Ведь я был честный перед народом солдат, а? Как, хлопцы, думаете… могу… могу я… загнуться теперь спокойно, а? Знаю, отольется им моя кровь.
«Никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля!..» — хрипит патефон в командирском шалаше. Щелкунов выбегает, и сразу же песня обрывается, слышится треск кулака по пластинке, вопль Ольги:
— Вот он покажет тебе, хулигану!..
— Веселей, хлопцы, — шепчет Сашко. — Не так это страшно… В плену было хуже… — Он пытается улыбнуться. Эта улыбка — как последний язычок пламени в догоревшем костре… — Мой ремень со звездой возьмите, на память. И сапоги совсем еще целые. С того немца-майора их снял. Не думал, что переживут меня. Зачем им-то в земле пропадать! Вещмешок — там у меня амулеты немецкие, кресты железные — для дочки берег… И главное — пулемет мой чтоб в хорошие руки… Пусть мой второй номер Володька Терентьев возьмет. Его тоже поковеркало, но починить можно, не из костей, не из мяса сделан… Не любит густую смазку… И третий диск заедает… В плащ-палатку не надо меня заворачивать, осень — пригодится, лапником только лицо прикройте. Самарин! Где Самарин? Главное — в отряде большевистский порядок навести!.. Чтобы не тратить силы… Чтобы не своих бить, а врага…
И в глубине зрачков вспыхивает тлеющая мысль…
Юрий Никитич гладит сведенные судорогой руки. На губах умирающего пузырится алая кровь. И слова его — как пузыри из черного, бездонного, безвозвратного омута:
— У… ми… раю…
Почти неслышно, из последних сил выговаривает он:
— Хоронить… чтоб честь честью, рядом с Богомазом…
Салютом на похоронах пулеметчика Покатило был грохот бомбежки. В отместку за Никоновичи немцы дотемна, квартал за кварталом, бомбили Хачинский лес.
В санчасти
Юрий Никитич поместил меня в палатку для легкораненых, вмещавшую четырех человек. Только меня, с моим продырявленным левым плечом, и не хватало в этом безруком и хромоногом ансамбле: у Баженова пробита пулей правая рука, у Бурмистрова — левая нога, у лейтенанта-окруженца Казакова — правая…
К удивлению своему, я не испытывал особой боли или слабости. Но рука не повиновалась мне, пальцы не шевелились, и это пугало меня — даже больше, чем пугали перевязки. С самого начала я твердо решил воспользоваться своим пребыванием в санчасти, чтобы научиться превозмогать физическую боль: а вдруг в гестапо угожу? Когда Юрий Никитич или жена его Люда невозмутимо отдирали присохший к ранкам бинт, хотелось визжать и плакать, но приходилось улыбаться или зевать равнодушно в сторону. В эти неприятные минуты я крепился, старался думать о Боровике. Не очень удачно получалось это у меня, когда Юрий Никитич запихивал в каналы входного и выходного ранений смоченные риванолом марлевые тампоны, и совсем плохо, когда врач извлекал эти тампоны. У Люды все-таки это как-то безболезненней выходило, она никогда не забывала размочить ссохшиеся бинты, и я невольно норовил попасть на перевязку именно к ней. Но, заметив это, я дал себе слово нарочно перевязываться только у самого Юрия Никитича, начальника «шпиталя», как называли белорусы наш лесной партизанский госпиталь.
Чудесные люди Юрий Никитич и Люда. Многое успел сделать за лето наш славный доктор. Все санчасти и врачи наших отрядов подчинены ему. Главврач следит за чистотой лагерей, проводит банные дни, медосмотры. Перед ним трепещут отрядные повара. Ему приходится делать все — от удаления зуба до ампутации конечностей. Вера партизан в Юрия Никитича стала непоколебимой после того, как он выходил Сироту. Хорошо знают этого врача на все руки и в деревнях: в Краснице, например, где лечил он страшные ожоги немногих спасшихся от экзекуции. Говорят, он представлен к ордену Ленина.
Время шло весело: безделие было если не заслуженным, то оправданным и потому — на первых порах — приятным. Друзья, знакомые и незнакомые по фамилии, приносили нам, раненым, мед, молоко, немецкие сигареты, тайком от Юрия Никитича угощали нас самогоном. Было странно, что луна наше «партизанское солнышко» — застает нас теперь в лагере, было непривычно спать ночью — тогда, когда весь отряд «работал», — а днем слоняться по спящему лагерю. Было странно, что жизнь в лагере ничуть не изменилась — пятнадцать человек погибло, много ранено, а наши товарищи по-прежнему уходили под вечер навстречу смерти и ранам и приходили под утро с трофеями и волнующими рассказами о боевых делах, и каждый из раненых все больше страдал, что не участвует в операциях отряда. В Никоновичах около тридцати винтовок и пулеметов выпало из наших рук. Они перешли к новым бойцам — пулемет Покатило, моя самозарядка — а через неделю, из-за наплыва новичков-добровольцев, опять не хватало в отряде оружия.
Та стремительность, с которой одна операция сменяет другую, кажется со стороны удивительной, даже лихорадочной. То и дело уходят или возвращаются в лагерь группы отряда, и звонкая лесная тишина отбегает, глохнет, лагерь наполняется гоготом, криками, командами, треском дерева, бряцанием оружия, песней, веселой руганью, переборами гармошки, рокочущим гулом мотора, скрипом телег: всюду снуют фигуры, мелькают возбужденные лица, пестрит всеми красками одежда, сверкает металл, взвивается пламя на кухне… А потом замрет говор, отстучит топор, медленно, недоверчиво сомкнётся над лагерем строгая тишина, застынут солнечные пятна на деревьях, на истоптанной траве между шалашами, и слышатся изредка только дремотные вздохи ветерка, писк осмелевшей пичуги, фырканье лошади у коновязи… Но недолго длится эта тишина: вон скрипнула уже на шляхе телега, затрещали неподалеку кусты и раскатился чей-то голос… Задорный, веселый голос — значит, едут без раненых, без убитых. Мы идем, ковыляем навстречу нашим друзьям, и на лицах раненых — нетерпение, зависть, радостное ожидание…