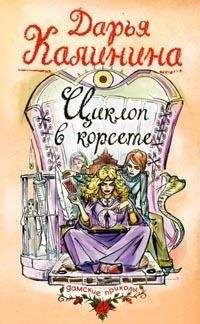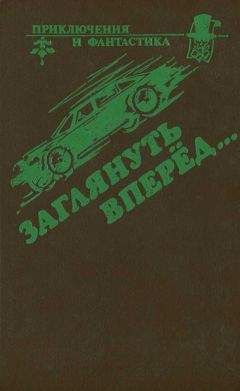Константин Симонов - Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)
«Еще сегодня утром был в Москве», – подумал о нем Лопатин и, мысленно обругав себя за то, что не решился спросить, видел ли Гурский еще раз за эти дни там, в Москве, Нику, вышел на двор.
Небо было чистое, в звездах.
«Если не сядем и не заночуем где-нибудь по дороге из-за испортившейся погоды, завтра же буду в Москве и увижу ее», – подумал Лопатин, удивляясь неправдоподобию того, что он еще вчера утром вместе с Чижовым стоял там на дороге, у сгоревших танков, около стонавшего, не приходя в сознание, танкиста с оторванной ступней, а завтра днем может оказаться в Москве…
18
Когда «дуглас» поднялся в воздух, Лопатин еще с минуту видел стоявший внизу «виллис». Василий Иванович сидел за рулем, а Гурский, стоя в «виллисе», прощально махал над головой пилоткой. По дороге на аэродром он сказал Лопатину, что когда приедет к их бывшему редактору, то, кроме обмундирования, выклянчит какую-нибудь фуражечку пощеголеватей, а то при своей рыжей шевелюре, очках, да еще в этой пилотке, сам себе напоминает пленного фрица.
– Черта с два ты у него что-нибудь выклянчишь сверх положенного по закону. Разве что отдаст собственное запасное обмундирование. Если оно у него есть.
– Вот и п-прекрасно. А заодно пусть п-произведет меня в генерал-майоры. П-представь себе, как я буду хорош в ламп-пасах!
Отвернувшись от иллюминатора, в который уже ничего не было видно, Лопатин улыбнулся своему воспоминанию о Гурском. Странно, когда вот так, на пятом десятке, привязываешься к человеку и совсем другого образа жизни, чем твой, и совсем другого поколения. Хотя война, как и всюду, так перепутала в их редакции поколения и так свела всех на «ты», что и сам не поймешь, к какому поколению принадлежишь…
Как только легли на курс, из кабины летчиков вышел стрелок-радист и, поднявшись по лесенке, сел на свой насест; как и во многих других «дугласах», в этом посредине фюзеляжа наверху был вставлен плексигласовый колпак с пулеметной турелью для наблюдения за воздухом и самозащиты. Колпаки эти, придумали в первые годы войны, когда в воздухе господствовали немцы, но многие летчики их не любили – не только теперь, когда все изменилось, но и раньше считали, что овчинка не стоит выделки: торчавший над самолетом колпак срезал скорость, и это иногда обходилось себе дороже.
Прикинув в уме, сколько ж они с этим колпаком пролетят до Москвы, Лопатин подошел к стрелку-радисту проверить.
– Не знаю, – сказал стрелок-радист, – мы еще в Минске присядем.
«Значит, не прямо», – с досадой подумал Лопатин, уже прикинувший, что они пролетят без посадки самое большее часа четыре с половиной, будут в Москве рано и если он сразу застанет Нику у Зинаиды Антоновны, то увидит ее еще до обеда, для которого заботами Василия Ивановича у него было кое-что припасено и в чемодане, и в вещевом мешке. «Наверно, будем брать еще пассажиров», – подумал он.
Брать их было куда. На тянувшихся вдоль фюзеляжа с обеих сторон узких железных скамейках сидело всего девять человек.
«Сколько же простоим в Минске и когда полетим в Москву? И сразу ли застану ее у Зинаиды Антоновны? – снова подумал Лопатин о Нике. – И сколько она пробудет еще там, в Москве, если сказала Гурскому, что у нее всего две недели? Выходит, только два дня. А вдруг у нее что-то изменилось и она уехала, не дождавшись? Гурский сегодня утром рассказал, что она каждый день звонила ему в редакцию и он объяснял ей, что вызов – вызовом, а корреспондента на фронте даже и по такой телеграмме иногда с собаками не разыщешь. Но это объяснял Гурский, а ей самой вполне могло прийти в голову гораздо худшее».
Он вспомнил позапрошлую ночь. Его так перетряхнуло, что неизвестно, как там в будущем, а сейчас хотелось побыть подальше от войны. И подальше, и подольше.
Бывает же так: весной, когда ранили, не испугался, не успел. А сейчас, когда остался цел, задним числом страшно. И непонятно – что писать об этом рейде.
«Вот когда она уедет обратно в Ташкент, – тогда и напишу. А может, не уедет? Но как она может не уехать, если там мальчик? Не могла же она сразу приехать с ним, значит, на кого-то оставила. Не хочу думать об этом, уедет – не уедет, мальчик… Когда увидимся с ней, тогда и будем думать, а сейчас – бессмысленно, потому что все равно ничего не способен без нее решить», – с ожесточением подумал он и, прислонившись к переборке – не спиной, которая все-таки болела, а левым плечом – так было удобней, – вытащил из полевой сумки тетрадь и карандаш.
Чем гадать, как все будет, лучше сейчас пересилить себя, чтобы на те дни и часы, которые она еще проживет в Москве, отрубить себя от войны, не быть в долгу. Может, этим уменьем пересиливать себя и объяснялась его так называемая работоспособность, про которую привыкли говорить в редакции. Никакая это не работоспособность, а просто нелюбовь быть в долгу!
Он раскрыл и перегнул тетрадь и, привычно подложив под нее на колено полевую сумку, заставил себя писать. Долг был важный, потому что тот разговор с Ефимовым, который он так до сих пор и не записал, был необычным. Ефимов и в былые времена разговаривал с ним откровенно, но на сей раз откровенность была из ряда вон выходящая, и разговор сидел в голове – весь, от начала до конца.
Было все это в первую их встречу, здесь, в Белоруссии, после того как не виделись с весны сорок третьего, с Северного Кавказа. Ефимов обрадовался, даже обнял, но разговаривать не стал – куда-то уезжал; сказал, что поговорят ночью, за ужином, когда дела – с плеч долой.
Наступление армии за три дня до этого приостановилось, принимали пополнение и ждали подхода танков и артиллерии из резерва главного командования.
Ужинали вдвоем, с коньяком, и Ефимов, обычно пивший одну рюмку, на этот раз выпил пять или шесть. Сначала расспрашивал Лопатина, где был и что делал; две из запомнившихся за это время корреспонденции в «Красной звезде» похвалил, а одну обругал – сказал, что война в ней выглядит проще, чем есть. Потом сказал, что артиллерии снова, как и в начале наступления, подкидывают много, сколько на Северном Кавказе и не снилось, и снарядов будет предостаточно. Такая мощь, что, имея ее, постыдно не сделать всего, что предстоит. И, выпив еще рюмку, вдруг помрачнел:
– Вот только воевать кем? Раньше, бывало, кем воевать – есть, а чем воевать – нет. А сейчас иногда выходит – чем воевать есть, а кем… Ездил сегодня из дивизии в дивизию, лично знакомился, какое получили пополнение. Оставляет желать лучшего. – Ефимов дернул контуженой головой. – Много стариков, в том смысле, что нашего с вами возраста. Много юнцов – с двадцать седьмого года. Есть, конечно, в пополнении и наш золотой фонд – бывалые, из госпиталей, но при всей их готовности воевать и дальше – глядишь и думаешь: «Есть ли на тебе крест – радоваться, что они – раненые-перераненые – опять к тебе, слава богу, явились!» – Он вздохнул и снова дернул головой. – А приходится радоваться, ничего не поделаешь! И нет такого права даже после трех ранений сказать ему: «Отдохни, ты свое на передовой сделал! Теперь другие доделают, а ты побудь где полегче, хотя бы в полковых тылах».
Он замолчал и долго смотрел на Лопатина, словно еще раз примеряясь, говорить или не говорить до конца все, что хотелось.
И, примерившись, все-таки сказал то, что Лопатин теперь, хотя и сокращая, но так, чтобы потом все самому было понятно, записывал в дневник.
– Конечно, за все, что раньше – тут или там – не так делалось, не вы, а мы – генералы – первые ответчики, кому ж еще! Но все же и вы, корреспонденты, писатели, особенно те, кто с первых дней и давно уже не только штатские, а и военные люди, – тоже не без греха. Вспоминаю по газетам, что вы – не лично вы, а вообще, да и вы тоже, – бывало, писали про наши дела и в весну сорок второго, и осенью, да и в сорок третьем тоже, особенно про те фронты, где подолгу в обороне стояли или на месте топтались, то и дело писали про нас, как мы геройски наступали в разных частных операциях, как из болота на гору лезли или с открытого поля опушку леса брали. А задумывались ли над тем, почему так часто наступали с невыгодных исходных позиций? Войну вы видели, но недостаточно над ней думали. Так задумайтесь хоть теперь; кого ни спросишь о тех временах – из солдат или младших офицеров, – и странное дело! – в памяти у солдата чаще всего, что он лежит в низине, а немец на высотке; он перед деревней, а немец в деревне, он под горкой, а немец на горке; он в болоте, а немец на опушке. Почему? География, что ли, такая необратимая? Фронт-то длинный, почему – не так на так. В одном месте – мы на горке, а они в болоте, а в другом – наоборот. В чем тут дело? Не задумывались? А надо бы! А немцы – сами, наверное, помните, – если столкнули их с горки, выгнали из деревни, в низине не встанут, в болоте не зароются. Отступят еще на километр-два, до господствующей высоты или населенного пункта. А мы – раз они отступают – вперед! По самое никуды! Вот так и получалось. Они в деревне, мы – перед ней; они на высоте – мы в болоте. А зачем он нам был – этот километр болота? Что он нам давал для будущего наступления? Бывало, что и ничего. Да мы сейчас, в это наступление от Могилева и Витебска, уже где на четыреста, а где и на пятьсот километров шарахнули! В Польшу ворвались, к Восточной Пруссии подходим. И какая, спрашивается, разница – с чего мы все это начали, на километр западней стояли или на километр восточней? Бывает, конечно, обстановка: плацдарм на том берегу, когда умри, а стой, потому что до зарезу надо для будущего. Думаете, я кому-нибудь позволю поставить под сомнение святость слов «ни шагу назад»? Я их с Одессы и с Севастополя знаю. Но эти слова бесповоротные! Эти слова не для того, чтобы швыряться ими по поводу каждого болота, хаты или отдельного дерева, от которого – ни шагу назад! Знакомился сегодня с пополнением, а в душе ярость: не на кого-нибудь – на самих себя! Чем дальше идем вперед, тем горше за прошлое, за то, что мы «ни шагу назад» слишком часто говорили не по делу. Принимал исполнение, а это – как гвоздь! Разные, конечно, есть среди нас, начальников – и больших, и малых, – одни раньше за ум взялись, другие позже. Одни способны были доложить наверх и доказать или претерпеть за это, другие – не умели или страшились. Но ведь были и такие, что не желали. Лежит у него солдат в болоте – и лежит, и сам он к этому солдату ходит, и сам вместе с ним в болоте гниет, и со своей жизнью так же не считается, как с солдатской. А что тут хорошего? Какая доблесть? Думаете, не помню, как панику пресекал, бегущих останавливал? Как ни горько, а было, что вот этой рукой на месте клал. Но когда мог солдата хоть немного от смерти оберечь, дать время поглубже закопаться, ход сообщения к нему подвести, – мог, а не сделал, – не прощаю этого ни другим, ни себе, потому что и сам бывал повинен. И тем более не терплю, когда сейчас, на четвертом году войны, какой-нибудь хлюст, имея право, а то в мое прямое разрешение – отойти на удобную, грамотную позицию, – кобенится, что удержится и там, куда по собственной дурости залез! Может быть, и удержится на солдатских костях, а то и на своих, но все равно хочется сказать ему: сукин ты сын!